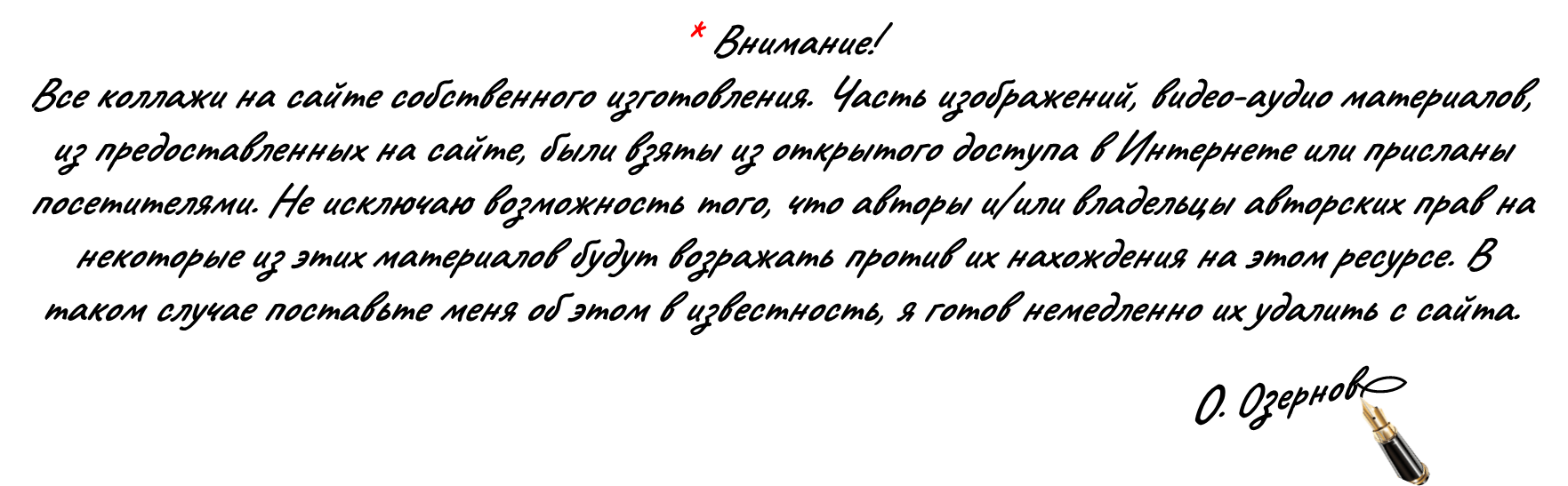(см. сноску *)
СОДЕРЖАНИЕ
Часть 1.
Часть 2.
Часть 3.
Часть 4.
Часть 5. (в работе)
Часть 6. (в работе)
Часть 7. (в работе)
Часть 8.
Продолжение, даст Бог, будет.

Я был мальчишка с Молдаванки, …
… который в раннем детстве ходил с чубчиком на лысой голове; носил чулки на резиновых бретельках с застёжками, застёжки были слабыми и капризными, и одна обязательно потом отстёгивалась, тогда чулок сваливался вниз и был виден из-под штанины, ноге становилось холодно, а мне стыдно, потому что казалось все видят, как нелепо я выгляжу в одном чулке; ещё носил летом штанцы на помочах буквой «Н» спереди, «Х» – сзади, бриджи с пуговицей под коленом, всегда мокрые варежки с резинкой через рукава пальто, тюбетейку, «строевые» белые панамки, хулиганские кепки из драпа, непродуваемую цигейковую шапку «шлем танкиста-водолаза», тяжёлые галоши, парусиновые парадные туфли, натираемые для белизны зубным порошком, и «вечные» сандалики;
… которому стыдно было просить у родителей купить, что-нибудь из одежды, обуви, игрушек, зная, что всё необходимое мне по возможности купят итак; мороженное, или книгу, денег на кино – это да, это другое;
… который зимой прикручивал верёвками коньки к валенкам, а летом угорело носился на огромных, тяжеленных шестироликовых коньках, купленных бабушкой за два рубля у уличного пьяницы; передние ролики у них почему-то всё время загибались вбок, и я их периодически разбирал чтоб выровнять молотком железки, на которых они держались;
… который жутко стеснялся, но ходил одно время в школу в странных, казавшихся женскими, а может быть, и бывшими ими, ботинках с большими медными пряжками; они были очень тёплыми, а я их ненавидел и всё время следил, чтоб штанины прикрывали от постороннего глаза эти жуткие женские пряжки, но они всё вылазили и вылазили наружу;
… который в нашей единственной девятиметровой комнатке над подъездом делал уроки на широком подоконнике и каждый вечер вдавливал, вколачивал свою раскладушку между диванчиком, где спала сестра и родительской тахтой, а по утру выковыривал её оттуда; от этих экзерсисов у неё всё время отцеплялись пружинки и потом их было очень трудно зацепить обратно;
… который помогал маме заклеивать окна на зиму газетной бумагой, да с клеем мучным, сваренным на шумном примусе, сладко думая о том, что уже скоро ляжет белый снег и Новый год придёт, и в доме запахнет ёлкой и ванилью;
… который кухонным ножом строгал мечи из ящичных дощечек; вырезал лезвием «Нева» красивые орнаменты по тонкой зелёной коре кустовых веток; плёл красивые брелки и разные поделки из цветной изоляции, аккуратно снятой с телефонных и других проводов; мог из двух подшипников и доски сделать отличный самокат; из фанеры выпиливал лобзиком ажурные орнаменты, перенесённые на фанеру через копирку из пятикопеечного альбома рисунков для выпиливания;
… у которого после центрового магазина канцтоваров возле «китобойки» на К. Маркса, любимым был магазинчик «Умелые руки» на углу Франца Меринга и Торговой, где продавались самые разные чудеса навроде наборов «Юного химика», «радиолюбителя», разных «Конструкторов», инструментов, материалов для поделок; и я копил на них деньги, экономя на школьных завтраках-обедах, а скопив небольшую сумму, всегда мучился выбором мечт между этими чудесами и почтовыми марками, которые собирал не один год;
… который с малых лет умел заменить спираль в утюге или электроплитке, без кровопролития и травм забить гвоздь, вкрутить шуруп в нужное место, заклеить развалившуюся книгу, заштопать на лампочке носок, сшить на швейной машинке из старого кухонного клеёнчатого фартука специальный конверт для разного инструмента, многое в доме поправить-починить;
… которому посыпанная толстым слоем сахара, слегка сбрызнутая водой горбушка серого «кирпичика», вполне сходила за дежурное пирожное; жаренная прямо в банке тайком от родителей сгущёнка, была любимым лакомством, а купленный сестрой в праздники у цыган на Соборке огромный петушок на палочке, вообще, считался за счастье;
… который давился рыбьим жиром с принудительной столовой ложки, одной на весь класс, под бдительным оком школьной медсестры, глотал её цветные витаминные пилюли от рахита и полиомиелита;
… который выгрызал с двух сторон жопки у батона, пока нёс его из магазина домой; ел цветки акации и шелковицу прямо с веток, немытые овощи, яблоки, абрикосы прямо с земли, уплетал на ура китовую и конскую колбасу, жевал битумную смолу, грыз брикетный кисель и жаренные семки, варёные рачки, отмерянные гранёнными стаканами и стаканчиками в газетный кулёчек ворчливыми тётушками, сидящими со своими, набитыми всем этим богатством наволочками, на входах в скверы и перекрёстках;
… который заслушивался игрой слепого лирника, ходившего по дворам, пением его мальчика-поводыря и подвыванием их дворняжечки на верёвке;
… которого, с несделанными уроками, заигравшегося до позднего вечера с пацанами на обрывистом склоне «Слоновий лоб», что в конце Матросского спуска над Пересыпью, хватал столбняк и прошибал холодный пот от крика, прибежавшего со двора гонца: «Алик, тебя мама искала!» …
… который семилеточкой ежедневно выносил в дворовой сортир помои и приносил чистую воду, набирая вёдра в дворовой колонке, а когда бывало она не работала, ходил за водой в соседние дворы;
… который был старшим по примусам и керогазу, а когда переехали в квартиру с печкой стал главным ещё и по тяжёлому топору, углю, дровам, золе, обожающим сидеть с сестрёнкой у той печки зимой и смотреть, на горящие, собственноручно положенные в топку, чурочки дров!;
… который покупал керосин из цистерны, объезжающей дворы, и свежее молоко из такой же цистерны на ЗИСе, только чистой и с другой надписью; бежал с мусорным ведром по зову мусорщика, заходившего в подъезды и звонившего в медный ручной колокол, созывая жителей к уже другой машине, грозной, как танк, но без пушки, зато с мощным блестящим поршнем внутри ребристого глухого кузова; а когда не успевал быстро надеть штаны по зову колокола, бежал за этой машиной иногда целый квартал в одном сандале, держа в одной руке мусорное ведро, другой поддерживая, спадающие штанцы;
… который, сбивая пальцы, тёр на колючей тёрке хозяйственное мыло, помешивал деревянными щипцами, кипящее в выварке на двух примусах бельё, потом помогал маме или сестре развешивать его на верёвках во дворе и натягивать те верёвки длинной палкой с гвоздём на конце; а как высохнет, снимать, носом зарываясь в него, морозное до хруста, чуть голубоватое от синьки, благоухающее неповторимым ароматом чистоты;
… который раз в неделю пугано мылся в бане на улице Ленинградская, где помывочный зал с длинными каменными полка́ми, весь уставленный бешеными, фонтанно бьющими бронзовыми кранами, был всегда полон вернувшихся с войны грустных, тяжёлых взглядом людей – одноруких, одноногих, вообще, безруких, безногих, изуродованных многими шрамами, особо страшными в местах ожогов, и вырванных по живому частей тел;
… который с бабулей носил по женским общежитиям и базарам плащи на продажу, сшитые мамой долгими бессонными ночами; стоял с мамой по субботам, воскресеньям на Толчке немного в сторонке, прижимая к груди пакет с парой этих плащей, чтоб если её проверит милиция, на руках у мамы было не больше одной одинаковой вещи, иначе будет считаться спекуляцией, к тому же потребуют объяснить их происхождение;
… который вперемежку с сестрой, было такое время, занимал очередь за хлебом в булочную с пяти утра, стоял в длинных очередях к кассе гастрономов и навсегда запомнил тот ужас, когда твоя очередь подходит, осталось перед тобой всего два человека, а мамы нет;
… который накануне праздников, пока мама была, как всегда, на долгой работе, делал ей сюрпризом гениальную генеральную уборку в квартире, и самой лучшей наградой мне был момент, когда вечером она, уставшая, с авоськами, сумками в руках, войдя замирала с ними у порога, медленно окидывала взором мои старания, потом смотрела на меня, а я выхватывал у неё из рук тяжёлую поклажу и всё ловил этот желанный взгляд удивления, благодарности, материнской любви и гордости за сынулю;
… который запросто прыгал с подножки трамвая и запрыгивал на неё на полном ходу; цеплялся с пацанами на покататься за задки длинных подвод биндюжников и от того что мы, жалея лошадей, никогда не цеплялись за гружённые подводы, огребал болю́че по пальцам кнутом с витой кожаной косицей со множеством противных узелков; при пустой подводе и длинном кнуте биндюжники, не оборачиваясь, через плечо доставали им до задка повозки;
… который мерял крутизну спусков Молдаванки к Пересыпи полётами на попе и санках с бешеной скоростью; жёг дымучки из обрывков целлулоидной киноплёнки, завёрнутой в обрывок газеты словно конфета в фантик, и подбрасывал их под двери, неуважаемых нашей дворовой пацанячьей компанией соседей; ставил на трамвайные рельсы пистоны, или гильзы от мелкашки, подобранные в тире, потом старательно набитые спичечными головками, чтоб поржать с пацанами на моменте подскакивания трамваевожатого и выражении его лица от неожиданности, при срабатывании нашего «фугаса»;
… который играл в войну и казаков-разбойников, салки, «замри», классики, выбивалки мячом, жмурки, в пристенок, ножики, ма́ялку, домино, карты; один раз с соседской девчонкой – в доктора и нам понравилось, но потом мы подошли к моменту, когда оба совсем растерялись, раскраснелись до ожога щёк и не зная, как такое продолжить, рассорились навсегда, краснея при каждой следующей встрече;
… который со всей дворовой братией, снимая обувь в прихожей, на цыпочках пробирался в центральную комнату дома у Генки Дуная на посмотреть через линзу и рамку с цветной радужной плёнкой телевизор КВН, единственный на весь двор, послушать, как в соседней комнате добрый великан Генкин папа – дядя Дима-таксист, больше всего на свете любящий детей, слабо отбивается от ругани Генкиной мамы-пилы Полины, любящей из детей, только Генку, себя и телевизор КВН;
… который летом, когда везло и не засылали в пионерлагерь, днями не вылазил из воды, плавал, как рыба, всегда за буйки, нырял за крабами, рапанами и мидиями, снимал, сопя от удовольствия, лаптями кожу, с обгорелого на солнце тела, кряхтя и охая – корочки засохшей крови с битых коленок; считал, что нет ничего вкусней и подарочней на пляже, чем натёртый солью початок пшонки, пирожки с капустой, горохом, картохой, творогом четырёх-копеечные, сплющенные в трамвайной давке по дороге на пляж, бутерброд с котлетой и яйцо вкрутую;
… который не любил пионерлагеря, и бывало, сбегал из них почти до объявления в розыск; не любил их за занудность старших, распорядок дня, заведомую скуку мероприятий с прыганьем в мешках, регулярные взвешивания, медосмотры, ходьбу строем, редкие родительские дни с кормёжкой домашними вкусностями в кустах и образом так быстро уезжающей к своим трудным, неотложным делам, мамы; «прелестей» лагерной жизни – вечера у костра, танцы и амурное щёлканье се́мак с девчонками после, коллективные ночные подглядывания за целующимися вожатыми, мазанье зубной пастой, храпящих стукачей, вылазки на искупаться при Луне, или в соседние сады-огороды… – всего этого хватало максимум на месяц, остаться на вторую смену считалось ссылкой из дома, на третью – каторгой;
… который лазил с друзьями в летний кинотеатр «1 Мая!», что на Комсомольской, с ветки дерева на четырёхметровую каменную стену, а если компашку шухерили, смотрел с крыши газетного киоска в щель той стены над литыми воротами – Ихтиандр в глазастом шлеме, «Лимонадный Джо» с кольтом, Наталья Варлей в скатерти и синих колготках того стоили;
… который менялся книгами на почитать с друзьями, кроме школьной, был записан в две городские библиотеки, читал запоем самые интересные в мире книжки, в том числе и на уроках, держа их под партой, и по ночам с фонариком под одеялом; состоял в кружке при Центральном Археологическом музее на Пушкинской, любил пропитанную древностью стынь подвала его запасников, описывать, помогать клеить осколки амфор, найденных на дне Чёрного моря, ездил с кружком по древним раскопкам Ольвии и Аккермана, и даже, немного там пошурудил лопатой и кисточкой;
… который под настоящим гримом, в бороде и с театральной двустволкой, в школьном спектакле «У озера на границе», поставленном училкой пения, бывшей актрисой какого-то театра, играл бдительного деда с единственной репликой в роли – «Надо наказать!!!» и всё второе отделение охранял шпиона, пойманного бдительными пионерами; в драмкружке городской библиотеки на углу Ярославского и «Советской армии» срывал аплодисменты, играя усатого с трубкой в большой морской фуражке и с подушкой-животом под белым кителем капитана Врунгеля;
… который прятался под полами пальто и шинелей болельщиков «Черноморца» и «СКА», чтоб пробраться безбилетником на центральный стадион в парке Шевченко, поболеть за «моряков», покричать, срывающимся голосом – «Кула-а-агин, бей!»;
… который однажды нашёл под лестницей у почтовых ящиков в парадной друга Яшки, потёртый кошелёк с двенадцатью рублями, и половину отдал маме, на вторую накупил себе того, о чём долго мечтал, подарки сестре; потом расспрашивал, как бы невзначай, Яшку – не терял ли кто из евойных денег; потом всю жизнь охал и корил себя, вспоминая тот «праздник», от того, что не пришло тогда в голову обойти все четыре этажа в парадной, спросить, не терял ли кто денег, вдруг они у кого-то были последними на тот момент;
… который разгружал с пацанами арбузы, дыни из 51-го ГАЗона в клетку-киоск у гастронома на Ольгиевской, того, что наискосок и напротив к/т «Дружба», и деловой грузин в кепке-аэродроме рассчитывался с нами по принципу «сколько унесёшь», т.е. сколько дынь, арбузов сможешь унести, то твоё; мы однажды принесли с собой сетки, в которые входило по два-три солидных арбуза и «унесли» много, почти волоча по земле; и тогда грузин нас с криками «уволил», а мы стали разгружать то же самое двумя кварталами ниже по Ольгиевской на овощной склад в подвал напротив Мечниковского сквера, и грузин уговаривал нас вернуться, а мы гордо отказывались и смеялись над ним;
… у которого цыганка, облепленная цыганятами, под «Новым рынком» легко выманила три рубля, данные мамой на закуп базарной картошки, капусты, других нужных продуктов в гастрономе, и который потом пустой до позднего вечера шатался по городу, обгоревшей от стыда и отчаяния головёшкой, боясь вернуться домой, зная, что эта трёшка последняя до маминой зарплаты, и до неё ещё жить семье почти неделю;
… который, когда ему не хватало к деньгам, накопленным, на долгомечтаемый синий блокнотик с алфавитом и календарём, шариковой ручкой сбоку, тридцати копеек, попросил их у шикарных китобоев, бичевавших под своей конторой неподалёку от центрального магазина «Канцтовары»; получил «с барского плеча» аж, целый рубль; купил своё счастье и похвастался им перед мамой, рассказал о чудесных китобоях, за что был впервые в жизни тщательно и жёстко, голым, выпорот ею отцовским ремнём; потом не знал, что делать, чтоб остановить её рыдания и какой-то жуткий, звериный вой, порвал этот проклятый блокнот на её глазах, и от боли ж*пной и душевной совсем не хотел жить;
… который со всей дворовой ватагой беспощадно воевал с одесскими гицелями, отбивая у них бездомных и домных собак, чтоб их не везли на мыло в жиркомбинат, тем срывая ловлю несчастных животных и так восстанавливая справедливость;
… который в компании дворовых друзей, одноклассников, излазил с факелами, фонариком-жужжалкой и свечами все подвалы в округе в поисках входа в катакомбы, кладов и стоянок партизан-подпольщиков, и там даже находили штык времён Суворова, патроны от трёхлинейки, царские банкноты, и бывало, чуть не заблудились несколько раз;
… который на спор полуобморочно залез на площадку десятиметровой вышки в бассейне Дюковского парка, и осознав, что назад дороги нет, падал с неё трусом на глазах парковой шпаны и всей дворовой честно́й компании, чтоб выйти из воды счастливым героем-победителем той трусости;
… который пионером нарядным по весне с классом и всем городом на митинге встречал китобоев, вернувшихся с промысла из Антарктики, восхищённый и гордый величием базы-флагмана «Советская Украина» и поражённый малостью китобойных судов-«бойцов», заполнявших тогда весь порт и ближний рейд, способных преодолевать такие расстояния и долгие месяцы бороться с океанскими штормами;
… сердце которого зашлось восторгом и ликованием в одном порыве со всеми моими одноклассниками-первоклашками, всей школой, городом, страной и миром, при крике «Человек в космосе!!!», который впервые услышав имя Юрий Гагарин, принял его и благодарно запомнил на всю жизнь;
… который на субботнем сборе металлолома пол дня весело и жарко тащил с одноклассниками тяжеленный шестиметровый, обросший засохшей глиной обрезок трамвайного рельса по булыжным мостовым, сперев его из кучи на ремонтном участке улицы, а потом с той же компанией, разоблачённой и пристыженной школьным завхозом, взвешивавшим трофеи на школьном дворе, до позднего вечера пёр её обратно, проклиная дотошного завхоза и несправедливость, и понимая, что металлоломное соревнование с «Б», классом окончательно проиграно;
… который со всеми одноклассниками дружно и злобно ревновал классных девчонок к месье Барэну, колоритному профессору, а ля Жан Маре из «Фантомаса» пополам с Трентиняном из "Мужчина и женщина", выписанному из Франции Одесским госуниверситетом, и ведшему у нас еженедельный факультатив по французской литературе; всегда ходившему на занятия в фантастически солидных пиджаках, такой же обуви, замшевой, на невероятно толстой мягкой подошве, и о ужас, вечно в шёлковых шарфиках, элегантно завязанных под горло или просто наброшенных на плечи; из нагрудного кармана пиджака у него таинственно, по-шерлокхомсовски выглядывала красивая трубка; а ещё иногда он приходил в берете, что было вообще непобедимо, причём носил его, куда более элегантно, чем, горячо любимая пацанами Лилия Исааковна – учительница французского;
… который вырывал листы с плохими отметками из дневника, любил писать тоненьким пером-«уточкой», выгибал кончики острых перьев по настроению то внутрь, то наружу, слюнявил кислый химический карандаш, с вечно чернильными пальцами рисовал под линейку поля в тетрадках, ненавидел мел, вонючую тряпку у классной доски, специальную перьевую ручку с ложбинками для пальцев для переучивания левшей, занятия каллиграфией, и дурачась, махался с одноклассниками чернильницами-непроливайками в торбочках на мотузке́, как пращами;
… которого за драку с другом из-за девочки выгоняли в апреле из школы до конца учебного года, к тому же в дополнение наказания по требованию завуча остригли наголо, потом судили на собрании класса, где эта девочка спокойно предала меня, полностью извратив ход тех трагических событий в пользу пострадавшего, на радость классной и педсовета;
… которому никогда в голову не приходило хоть в чём-то завидовать своим одноклассникам из весьма обеспеченных семей, вообще завидовать кому бы то ни было;
… который казёнил уроки, топая осенними-весенними днями километры, по только что построенной Трассе здоровья – дороге, тянущейся над морем по обрывистому берегу вдоль всего пляжного побережья от Ланжерона до Аркадии, делясь с чайками от пары школьных бутербродов, болтая с ними и морем на свои пацанячьи темы;
… которого за строптивость и хулиганистость последним из всего класса, через год после всех приняли в пионеры, в школьный комсомол вместе со всеми так и не приняли, а в школьной характеристике на выпуске из восьмого класса в «Особых отметках» типового бланка завуч приписала от руки – «Болезненно реагирует на несправедливость», отчего чуть было не пролетел, при поступлении в мореходку;
… который всё своё детство не видел на экранах и нигде не мог видеть картинок с трупами, ножами, входящими в тело человека, попадания в него пуль, кровавых ран, луж, мозгов на стенах и асфальте, сексуальных сцен, драк, насилия, садизма, смакования убийств и смерти, издевательств над пожилыми людьми и детьми, всего того, что позже свалилось на головы советских людей, как только соприкоснулись с т.н. цивилизованным миром;
… который всегда знал, что живёт в самой лучшей, самой сильной и справедливой стране мира, борющейся за счастье всего человечества, стране, бесплатно его учившей, заботившейся о его отдыхе и здоровье, ограждающей от грязи жизни, давшей ему лучшее образование, знание языков, подарившей детство, полностью подготовившее его к полноценной взрослой жизни!
Я мальчишка с Молдаванки счастливый моим детством, научившим меня мечтать, любить, дружить, драться, делиться последним, жалеть слабых, не пасовать перед сильными, бороться, выживать, презирая трудности, не желать излишеств, подчиняя всю жизнь их добыче, помнить подвиги предков, понимать и чтить корни свои, широко видеть жизнь, не скатываясь в рамки хуторского узкоглядия. Моё детство – эта та самая Вата, тёплая, солнечная, пуленепробиваемая, чистая от клопов зависти, вшей жадности, плесени ненависти, лучший иммунитет от всей подобной заразы. Я насквозь обложен и состою из этой благотворной ваты, я оттуда родом, я – Ватник, шитый из неё строгой, ровной строчкой добра, любви, равноправия.
Что могут предложить мне и таким, как я, высокомерные снобы, плоские выпускники Лиги плюща, оксфордов-гарвардов-йелей и толпы жалких недоучек во власти, т.н. «цивилизованного» мира, чем, каким великолепием духа, совершенством ценностей пытаются подменить нам, впитанное с молоком матери и соками Родины в нашем советском детстве? Ничем. В их мире, которым правит исключительно нажива, мы лишни. Отсюда сбросившая вековые маски и вставшая на дыбы ненависть к нам – Ватникам, русским. Наживе, и только ей подчинено всё – мораль, культура, искусство, спорт, образование, семья. Несогласные – лузеры есть и унтерменши. В топку!
По их недо меркам я лузер, и это, слава Богу! Было время, на волне всеобщего радостного схождения в великий обман пытался вписаться в их мир, и кое-чего достиг. Потом, по мере узнавания его сути дошло – успешность в этом мире наживы невозможна людям, напрочь лишённым цинизма, неспособным тотально врать, предавать, красть, хитрить, подличать, лицемерить. В нём доброта, сострадательность, справедливость и честность призираемы и жёстко наказуемы. Уберёг Господь, детство моё Молдаванское уберегло, память не отказала. Спасибо.
Таких как я, ещё есть, топчут земли, краденные у великой страны в пору её боления.

Мы из тех, кто в зените века,
Золотого, как ни крути,
Века самой великой Победы
И торения в Космос пути,
Века Женщины и Мужчины,
Века Родины и Семьи,
Века слов настоящих гимнов,
Славы, подвигов и любви
Народились в стране великой,
Начинавшей нелёгкий путь,
Из безграмотности забитой,
Через смуты гражданской муть
В мир достойных и равноправных,
Просвещённых простых людей,
Чтущих корни родной державы,
И заветы отцов, матерей.
Где родиться, не пригодиться,
Та страна занята собой.
Растеряла себя, но снится
Нам простор её голубой.
Снова земли свои собирает,
Снова учится бить врагов,
А вокруг неё доживают,
Миллионы закрытых ртов.
Нас, оставленных за забором
В кутерьме девяностых лет,
Лиц, листающих приговоры
За приверженность славе побед,
За свою благодарность предкам,
Верность вере своей и корням,
За хранение памяти светлой
Лучшим в жизни годам и дням.
Незамеченные в природе,
В предначертанный Богом путь,
Понемногу мы все уходим.
Даст Бог, вспомнят когда-нибудь!
Рига. Январь 2024 г.
© Copyright: Олег Озернов, 2024
Свидетельство о публикации №224011201157