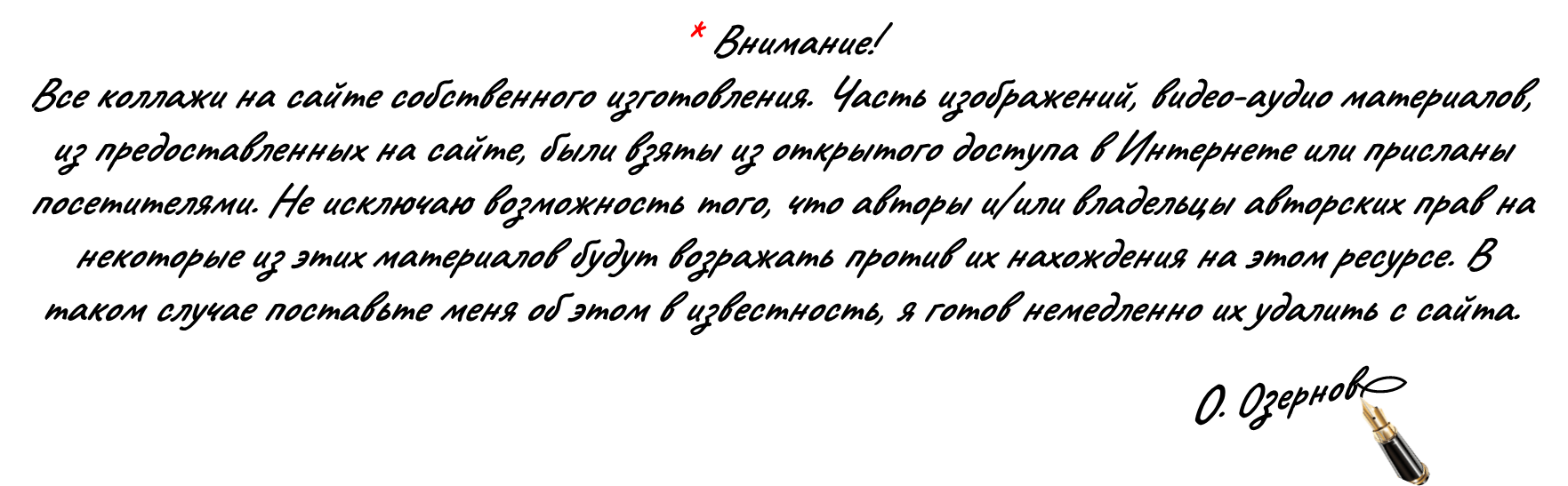|
В СССР секса нет!

В СССР секса нет!
Не морочьте людям голову, всё было в СССР!
Любые металлы, углеводороды были, первые космонавты были, первые флаги на недосягаемых горных вершинах были, масло вологодское вкуснейшее было, лучшие спортсмены были, тара оборотная опять же, оленей тьма. А сколько всего бесплатного было, настоящего, не липовыми скидками в магазинах! Впору вспомнить, ставшее сегодня загадочным слово «санаторий».
А сколького мы ещё не знали про научное всё, военное, подводное, подземное, стратосферное!
Да, секса в Советском Союзе не было. Подтверждаю, как очевидец, переживший "трагедию"! Не было его, того, "западного", и как выяснилось, слава Богу!
А так, народ сильно интересовался. Но, как-то жили… Любили. Размножались. Включали воображение, смекалку. Да, интересовался! Как не интересоваться, если ты два года под землёй на ракетной точке сидишь, или на станции полярной, или семь месяцев в море без права интересоваться?
Остальные чего-то шили из резинок и кружавчиков, клинописа́ли на стенах клозетов, самопечатное дело в стране развивалось. Красные фонари горели в ванных на проявке загадочных фотоплёнок, повышающих рождаемость и статистику разводов. «Секс» тогда ходил по рукам. Читали, смотрели, развивались. Без громкой музыки, тихонько, наедине с собой или партнёром по ячейке общества. Глухонемые карточки в поездах продавали с томными целующимися парочками, розовыми попами, и голубками вокруг них. Недорого, целомудренно… почти.
Как этот интерес не скрывался массами, а любой начинающий филолог, психиатр не могли не заметить живое подсознательное проявление этого народного интереса, в бытовой разговорной речи, где весьма часто упоминались человеческие органы, имеющие непосредственное отношение к физиологическому аспекту секса в целом.
От либидо не спрячешься. Везде найдёт тебя, и проявится, будь ты индивид, будь масса народная.
А всё дело в тестостероне. В юные годы организм начинает производить его в несметных количествах, по непонятным причинам, при том, совершенно не советуясь с мозгом. Мозг же советского школьника в этот момент занят другим, он готовится к полёту на Альфа Центавру и свершению по пути пары-тройки подвигов с отдачей жизни за любимую Родину.
«Любовь нечаянно нагрянет, когда её совсем не ждёшь…» - это про тестостерон.
Наташа Т. в четвёртом классе пошла в секцию художественной гимнастики, а уже в пятом классе на уроке физкультуры, куда Наташа стала приходить в гимнастическом купальнике, мы обнаружили у неё грудь. Мы, это офонаревшие пацаны, старающиеся громко не смотреть в ту сторону. Чем громче не смотрели, тем было понятнее всем остальным, включая Клавдию Филипповну, училку по физре, что глаз оторвать не можем, и это сильно мешает проведению урока. Кто будет смотреть на баскетбольную корзину или гимнастические кольца, или на набивные тяжеленые мячи, когда рядом физкультурят такие круглые очаровательные формы.
Как оторвать мальчишечий взгляд от этих округлостей, с дерзко выступающими из-под купальника невиданно крупными соска́ми, от этого выреза, манящего неизвестно куда?!... На первом её появлении с сосками в огромном зале, я и все остальные пацаны, одинаково почувствовали некоторые новые ощущения в своих молодых организмах, и упали в эротический обморок стоя.
Кто-то не попадал руками в гимнастические кольца, кто-то падал с коня, в баскетбольное кольцо, вообще никто не попал ни разу, кто-то выше, чем никогда ранее, залезал по канату, чтоб глубже заглянуть в вырез Наташкиного купальника.
А та, физкультурила себе, как обычно весело, легко, гимнастически грациозно. Девочки, нарождающимся женским чутьём прочувствовали ситуацию, и неспортивно завидовали. С их, почти мальчишескими грудками, едва угадывавшимися под трёхрублёвым спортивным трикотажем, шансов в борьбе титанок и быть не могло.
Жаль, мы тогда не курили, но собравшись в сторонке пацанячим гуртом после уроков, долго и краснея, молча нервничали, не зная, что и сказать. Предложений насчёт того, что делать с Наташкиной грудью ни у кого не народилось. Мы же помним, секса в СССР, тем более, его не было в юношеском разряде.
Эротическое господство Наташи Т. над нами длилось недолго, потому что, уже к седьмому классу отличница Оля К., круто обошла грудями Наташу Т., и даже, переплюнула чемпионку школы в этой квалификации, физичку Людмилу Ивановну, тоже Т.
Людмила Ивановна Т. любила физику, жизнь, молодость, а мы все любили её, недосягаемыми чувствами, нашей мятущейся сексуальной неосведомлённости. У неё был откровенный роман с десятиклассником К., постоянно подогреваемый в закрытых педсоветах, собраниях школьного парткома, на которые не допускались ни даже, комсорг школы, ни председатель пионерской дружины, а только сочувствующие из парторганизаций города. На всех этих собраниях влюблённой физичке, авторитетные люди и завуч предъявляли веские доказательства отсутствия секса в СССР. (Когда кудрявый десятиклассник вырос из школы, они поженились, нарожали деток, и долго жили счастливо, надеюсь и сейчас так).
Все пацаны, влекомые физиологией, ждали физику, особенно начало урока. Сначала в класс входила грудь, потом её учительница. Как назло, в кабинете физики стояла кафедра, мешавшая воспринимать преподавателя в целом, во всей гармонии учительской души и тела. То ли дело, прозрачный учительский стол, с его позволением учителю и классу слиться в экстазе процесса познания мира. Как часто мальчики роняли разные предметы, как медленно и вдумчиво мы поднимали их…
Не все из нас могли вот так, сразу встать и ровно выйти из-за парты к доске по зову Людмилы, свет Ивановны, ой не все. Требовалось некоторое время для успокоения организма, возбуждённого высокой тягой к познанию физики.
Однажды, в восьмом, случилась мне ласка женская, неожиданная и коварная. Первая в жизни не материнская. Прямо посреди урока и весны, в поре того самого томления весеннего, и бурного профицита тестостерона.
Все что-то писали под диктовку, медленно фланирующей между рядами парт, учительницы. И я писал. И вдруг, о боги, рука её нежно легла на кудри светлые чела маво́! Не прекращая диктовку, она погладила светлую голову, потом, собрав во длань копну соломенных волос, слегка потянула и отпустив чрез миг, пошла своей дорогой вдаль к доске.
Сладко стало и волшебно, класс исчез, всё остальное вместе с ним, остались двое - я, она…
Как длить хотелось то мгновенье, словами мне не передать, и только, вырвалось из сердца, молящее её, - «Еще!!!». Хрустально-колокольным звоном на класс на весь, на школу всю.
Мне улыбнулась, обернувшись, и голосом волшебной феи пропела громко и игриво - «Олежек, голову помой! Здесь баня есть через дорогу». Опешил класс, я вместе с ним. Финал без паузы был строг - « Всё записали? Сила действия равна силе противодействия».
Процесс познания школьной братией загадочной сферы плотских отношений не останавливался, именно за его загадочностью и… запретностью. Шибко сладок плод запретный, не дремлют ангелы падшие. Мой школьный друг Валерка Х. был из семьи потомственных лекарей высокого профессорского ранга. Разумеется их дом был полон академичности, книг медицинских. И ужасный череп там был, с открывающимся кумполом, и кость берцовая могла попасться на глаза, если порыться, и инструмент хирургический вперемешку с кухонной утварью, в фраже. В отсутствии старших, бывало, мы с любопытством краснолице разглядывали огромный анатомический атлас, где встречались женские тела, целиком, но со снятой местами кожей, и отдельными частями тела в коже и без. Было это жутко таинственно и ново. Когда с приходом его мамы или старшего брата, хлопала входная дверь, мы шухерно прятали тот атлас, доставали учебники, и встречали взрослых красными от ученического усердия мордахами. Настолько красными и испуганными, что это не могло не вызвать у них некоторых подозрений. Комната в таких случаях обязательно окидывалась пытливым подозрительным взглядом старших, только добавлявшим нам стыдливой красноты щёк и задниц. Не пойман - не вор. Вопрос - «Что делаете, мальчики?» возвращал мальчикам речь, а с ней и начальные навыки детского вранья.
И, возвращаясь к груди Оли К.
Каждодневное смятение не вынесет, и самое крепкое сердце.
Восхищаться, даже, такой прекрасной грудью целый учебный год, это всегда быть за́станным врасплох, при каждом вызове к доске. Устали все. К тому же, мальчуковая часть класса подсознательно жаждалось подробностей. И ту любопытную жажду никак не удовлетворяли редкие полотна с обнажённой натурой в художественной галерее во дворце Нарышкиных на Короленко. На экскурсиях класса в сей храм искусств пожилые экскурсоводши проводили нас мимо таких шедевров в особо ускоренном варианте. При том, по дороге всячески отвлекая на скучные пейзажи и натюрморты.
Выход в безвыходной ситуации нашёл Вовка Маникин. Его папа был китобоем, а они всегда находят выходы из любой ситуации. Вовке перепало это качество по наследству.
И принёс Вовка в подполье парт и школьного туалета толстенный каталог «Quelle», с грандиозным разделом женского белья. А с ним пару, выдранных из какого-то вражеского журнала с молотообразным названием «Плейбой», и да, теми самыми подробностями анатомии женской прелести. «Так закалялась сталь!». На переменах и продлёнке собиралось классное мальчишечье племя на курс теории невероятности, взрослея и смелея потихоньку. А как же? Знание - сила!
Олина грудь постепенно сдавала позиции, тем более, к ней прилагались, вспыльчивый, колкий до ехидности характер, и очень умная головка. Неоперившимся мальчикам, такой комплект нарасхват не бывает. Впрочем, и взрослым мужикам тэж. После восьмого класса ушёл в мореходку, и эта грудь не сыграла в моей жизни знаковой роли, только окрасила её начало лёгким налётом робкого и платонического познания смысла первородного греха.
На сорокалетие класса, а мы до сих пор собираемся каждые пять лет, бывает и чаще, невзирая на погоду, революции и предписания врачей, написал короткие стишки-посвящения каждой, из наших любимых девчонок, давно ставших матронами, при взрослых детях, внуках. Обошлось без побоев, приняли.
Любимой однокласснице - Олечке К.
Не волновали нас принцески, что рисовала ты в тетрадках.
Держали всех нас тонкой леской, не ум и колкие нападки,
И не твои успехи в школе влечения являли суть.
Для пацанов причиной боли была твоя младая грудь.
Хоть и не знали, что с ней делать, мы в те далёкие года,
Но первый зов младого тела с тобою связан навсегда.
Ты восхищалась мсье Баре́ном*, мы возрастом не догоняли.
Сходили в зависти на пену от ваших умных пасторалей.
Те же из нас, кто послабее тайком тебе слагали гимны.
Быть может до сих пор балдеют. Я с ними, но... факультативно.
* Месье Барен, выписанный Одесским университетом из Франции, читал у нас после лекций в универе факультатив по французской литературе. Месье носил, редкий по тем временам, солидный твидовый пиджак коричнево-клеточных оттенков, с ярким платочком в кармашке. На шее - шёлковый шарфик, заправленный под воротник рубашки. Ремень с элегантной пряжкой, брюки под пиджак, мягкие замшевые, коричневые туфли на толстой светлой подошве. От него пахло незнакомо дурманящими ароматами, светило, тщательно выбритыми щеками, достатком и достоинством. Умные глаза выгодно чуть увеличивали большие линзы очков в толстой роговой оправе. Широкоплечий, выше среднего роста француз. Экзотический образ венчала крупная голова в брюнетистой гриве, ухоженных волос. Настоящий профессор. Запомнилось, за необычностью образа в привычном течении жизни. Месье любил долгие беседы после занятий, на языке Гюго с умными, рано оформившимися старшеклассницами. Нужно ли говорить о том, что в него были тайно и отчаянно влюблены все обитатели нашей школы пола женского, включая многодетных училок, техничек, столовских поварих. И так же лишне будет говорить - мужское школьное население мусью глухо ненавидело, я, пацаны, Исай Михалыч - географ, и трудовик в том числе.
Стихо́, робко доказывающее, что секс в СССР был. Только, приходил он в нашу жизнь эротично робко, плавно, целомудренно, главное, чисто, оставляя рядом с собой место романтичности, не отбирая прелесть живого познавания, со всем его волшебством и да, издержками, без которых нет настоящих мужчин и женщин.
Он не лез в жизнь, чуть не с младенчества, уроками, сайтами, парадами больных людей, рекламой, со сцен театров, экранов кинозалов, и книгами, которым место, только на костре. Наши души не глушили чужим сомнительным опытом из мерзких учебников. Грязи не было, агрессивного навязывания нашим неокрепшим умишкам противоестественных природе человеческой выборов. Такой секс нам не нужен! Секса в СССР не было, это, правда, и какое же счастье, что не было, что довелось мне жить в ту пору чистую!
Не было животной секс-индустрии, пропаганды похоти, сексуального, политически идеологизированного засилия, формы новой религии. Не было, как понятия, самостоятельно, отдельно стоящего от любви. Была… эротика, фоновым приложением к ней, её естественным продолжением, апофеозом доверия, двух любящих. Секс, как понятие, принесли нам, выделенным в бизнес, политику, анти мораль, как средство превращения людей в животных, управляемых лишь инстинктами. Принесли, чужаки, деградировавшие до безумия пастухи, с волкодавами на поводках.
Мы входили в осознание естественной сексуальности природно, по её зову, её подсказкам единственно верным. И в этом вхождении не было ничего искусственного, надуманного, никого лишнего, и всё, только, согласно высшему предназначению человека, каким изваял его Создатель.
Вот она, вот я, и ничего кроме, ничего между, разве что, любовь, если посчастливится.
Рига. Ноябрь 2020 г.
© Copyright: Олег Озернов, 2020
Свидетельство о публикации №220112301224
Трамвай детства
(из писем другу)

Память подкинула. Где оно всё там лежит, не понять. Загадка. Наткнулся в Сети на текст один, и понесло, успевай записывать. Лови!
23-тий был одним из главных маршрутов детства. Шёл "дватроечка" за Новый рынок, огибал его, и через Ольгиевскую до Комсомольской, где мы и жили в 59 – 68-м годах.
Дальше, бежал лязгунишка от Автодортехникума по Комсомолочке направо мимо скверика, и там уже пролетал кольцом, как божья колесница, над Пересыпской насыпью, копошащейся у подножия Молдаванского холма.
С конечной мы спускались по длиннющей лестнице к Пересыпскому "забору". Одесские лестницы всегда к морю, - лёгкий спуск, тяжёлый подъём, школа взлётов и падений. Вниз через две ступеньки, авоська с тормозком по ногам хлоп-хлоп, яйца всмятку, - чистить не надо, хлеб, как из блендера, мятый и пропитанный докторской колбасой или салом, или блинчиком из кильки. Назад и вверх, в тоске преодолений усталости, возвращавшихся с моря, всегда голодных, просоленных, изъеденных медузами, солнцем, надраенных песком, битых и облизанных волной морской, пацанов.
А спускались с коне́чки двадцать троечки, чтобы уже на Пересыпи пересесть на другого лязгуна, топавшего, аж до Хаджибейского лимана. На повозиться в грязи, на тёток голых унавоженных позенкать из засады, искупаться, глосика половить. Эти особи всех поколений грязелечились там целыми стадами чёрных котиков-кошечек. Такое, кажись, там сегодня не водится, хотя точно не знам. Говорят, всё давно в честных и чистых частных руках. Посторонним вход воспрещён!
А, если водятся теперь, то только считанные, и в купальниках. Судя по этой одинокой фотке из тернета.

В мои светлые времена водились голые. Глядя на эти лежбища-стойбища чёрных женщин всех возрастов, мы мужали, познавали анатомию женщин не по учебникам, предугадывали светлое будущее, и становились ближе к пониманию проблем колонизированной империалистами Африки.
Боже, как это было целомудренно и чисто, понимаю сегодня, опалённый многолетним огнём тотальной европейской толерантности, что эти наши невинные гляделки пионерские, ничто в сравнении с сегодняшним искусством проникновения в сокровенное!

Порадуйся разом. Это творение нашего местного латышского гения искусства стоит, в Юрмале. Клянусь, если бы в детстве я ходил мимо этого шедевра, моя мужская жизнь сложилась бы иначе. Скорее всего, она была бы совсем мужская, и без потомства.
Вернёмся из грязи свободы искусства в грязь лиманскую. Вторую, кстати, уже много лет вывозят контейнерами в Израиль и другие окрестности Одессы. Бартером завозят первую.
Когда наша мальчишеская тяга к знаниям опрометчиво нарушала границы осторожности, всякий шпион имеет право на провал потеряв бдительность, тётки раскрывали наши явки и затеивали облавы. Первая заметившая наши чубчики-ирокезы, издавала индейский крик, и племя грязекожих бросалось в погоню. Пытались окружить и чуть-чуть убить.
Это было весело.
Догнать, убегающего от превосходящих сил противника пионера, невозможно. В процессе бега мы успевали оглядываться, чтоб наблюдать, как стремительно обсохшая на бегу лиманская грязь, пластами отваливалась с разгорячённых женских тел, открывая нам новые горизонты познания прекрасного.
Ты меня осуждаешь, и права сто раз. Вот, такой развращённый твой друг, живёт в центре Европы. Цени откровение, и не используй, как оружие презрения.
Разумеется, все эти переживания требовали многих нервных усилий, потому, кроме Хаджибея, с Пересыпи мы чаще и ближе мотались другим трамваем в Лузановку или на "Горячку".
Лузановка, просто пляж. Пролетарский такой, диковатый.
В смысле, приезжих там было меньше, чем на «западных» пляжах с другой стороны порта. Проще, спокойней.
"Горячка"?
Две трубы необъятного диаметра, торчащие из-под земли, и изливавшие бурные потоки горячей воды из конденсаторов Пересыпской ТЭЦ в Чёрное море. Грели любимое, как могли, шоб бычок водился, опять же, отгонять от берега медузу и турецкие эскадры. Медуза холодную воду любит, эскадры, - чужой берег.
Что там «джакузи» нонешние! Форсуночки, сопелки, струйки детские. Хех-потех! Вот «горячка», это тебе не пенки в ванной с пизирьками. Потоки гневные, мощные, промышленные - поди удержись! Горячая вода с песочком! Так отполирует, мылов–шампунев не надо. Потом сольки морской добавишь, в море окунувшись. Такой тебе контрастный душ, что там тот душ, - купель божья!
Дела трамвайные, родной маршрут, подножка тёртая, поручни, полированные без наждачки по тринадцатому классу чистоты. Одесские трамваи, что те корабли, и нечего смеяться недотёпам. Раз есть штурвал, значит он корабль. А штурвал был на каждом! Большой, чугунный, чёрный, на такой же колонке, торчащей из пола. Буквы на ней литые были. Чего писали ими, не помню. Стоял он в будке вагоноувожатого справа. Правда, не рулил ничем, кроме тормоза стояночного. И ручка на ободе была у него одна. Да и та поперёк, не как на штурвале морском.
 
А ещё, слева от вагоноувожатого стояла, тоже чёрная, тоже с буквами, но ещё и с цифрами, и тоже чугунная, тумба со скоростями. Сверху ручка в форме ставриды толстой, но вместо хвоста, помидор эбонитовый, чтоб было вожатому, за что ставриду левой рукой держать. Ставрида ведь скользкая, а он за помидор её! Этой ручкой уважатый делал жизнь всему трамваю. Поставит на цифру ноль, - ша, уже никто никуда не едет счастья не будет! Перещёлкнет на 1,2,3,4,10, и вот оно счастье, - летит трамвай, везёт людей к целям их долгожданным.
И мы летим с трамваем и людьми! А какие у нас цели, у чубчиков одесских?… Не скажите, ого-го цели!!! Какой одесский не любит быстрой езды!... На подножке! Чи мы не ураган, чи не герои мы?! Слава пионерии!!!
Сначала едешь, держась обеими руками за поручни, но так, чтоб руки полностью вытянуты были, а ты под углом к двери! Так больше ветерка ртом и фигурой ловишь. А в жару одесскую знойную, ветерок тот всё с тебя сдует, всего потного обсушит, обрадует.
Долго радоваться нельзя. Дру́ги в тамбуре ждут, им тоже счастья хочется, не жадничай, пацан!
Разворачиваешься на подножке, одну руку отпускаешь, одну ногу с подножки в воздух, и вот, ты уже точно «знак качества», но с головой и чуть согнутым коленом опорной ноги. Тогда ветра ещё больше, но это миг. Даёшь десант, отрыв, и беги! Быстро беги, чубчик, наравне с трамваем поначалу. Иначе, - нос твой и коленки, ладошки и штанишки обнимут тёплый и гостеприимный булыжник одесской мостовой!
Потом стыд перед всем десантом, подзатыльник от мамы без охов, но с примочками йодными-зелёнкиными, и корки болячные на коленках и локтях, которые много раз будешь отрывать, пытаясь глупо посмотреть, а что там под ними,и так, пока они не зачешутся, не заживут и сами не отвалятся.
Кстати, лучше всего их отдирать было после многочасового барахтанья в морской воде. Откувыркался денёк в нирване пляжной, вышел на берег, глядь, а корки то море и слизало своим йодом, песком, водорослями. Оставило кроху махры непонятной, смахнул обрывком газеты-бумаги, и вот оно новое тело народилось вместо раны. Розовое такое, тонкое, и уже без узоров кровянки засохшей.
Прыгать нужно было не на повороте трамвая тихом и занудном, под вой усталый пар колёсных. Это, для фраерков центровых с бантиками, бабушками за ручку и со скрипочками, копошащихся под дверьми школы Столярского.
Наш пацан молдаванский должен был прыгнуть на самом разгоне, громыхающего болтами лайнера. Такое было, когда дватроечка разгонялся свернув с Подбельского на Ольгиевскую, оставив позади к/т «Дружба» и Гастроном. Там до Островидова уклончик вниз идёт и трамвай, его почуяв, шпарит, как торпедный катер на вражеский эсминец.
Вот там отрыв! За тобой сигали Серёжка И, Юрка Э, ещё раз Серёга, но М., и вдогонку нам дежурный крик кондукторши, - о чём-то своём, наболевшем!
Чуть не забыл! У уважатого, под правую руку, из пола трамвайки торчали три стальные трубки с краном на конце. И у того крана была ручка деревянная, тоже полированная руками, а сам кран всегда был жирно вымазан чёрным тавотом, который в жару жалобно подтекал по трубкам. И, чтобы кран не сделал жарким летом «лужу в коридоре», трубки под ним были перевязаны ветошью.
Кран работал всегда хорошо, плавно, и каждый раз, когда его крутили за ручку, важно и громко делал воздухом псыы-ы-ы-ы-ы, где-то внизу, глубоко под трамваем. При том, пущенный на свободу, очень сжатый воздух выдувал с рельс облако пыли, и всегда в сторону, противоположную дверям. Подозреваю, что таким образом он опылял прохожих, на другой стороне улицы, не пожелавших сесть в него, самый лучший в мире трамвай. Потому что он был самый главный воздушный тормоз этого трамвая, и работать иначе, ему было не положено по долгу службы. Главный тормоз любил свой трамвай и пассажиров в нём, берёг всем воздухом своим, сжимал колёса плавно и не больно в объятиях колодок своих тормозных, и только в нужные моменты жизни.
Чтоб не сомневалась, всё мои придумки про краны и чугуняки, нашёл фотки в Сети на одесских форумах замечательных.
В 82-м стояли мы на ремонте в Неаполе. Долго стояли. Однажды там случился матч на кубок УЕФА «Динамо» Тбилиси - «На́поли». Попал на тот матч. Отдельная история, как-нибудь отпишусь. Стал очевидцем схождения с ума целого города. Думаешь, Одесса была спокойней, когда случался матч, любимейшего одесситами «Черноморца»? Ни трошечки, детка!
В такие дни все трамваи города напоминали лозы виноградные.

И я там ягодкой зелёной безбилетной с пацанами висел. И катили мы с ветерком на дышлах и подножках трамвайных, чтоб увидеть в бою прославленного «Кота» (Костю Фурса), Дерябина, Кулагина. Легенды той футбольной Одессы.
Жаль история не увековечила разборки одесситов той поры и в тех трамваях, между болельщиками «Черноморца» и Одесского СКА. Цивилизационная потеря человечества. Это была пестня, сок Одессы, нектар её мудрости, эталон вселенской юморной выдержки супротив южной страсти убить здесь и немедленно!
Ну вот. Курс молодого бойца-десантника трамвайного и увожатого 3-го разряда ты прошла. Ручки не перепутаешь, как с подножки покинуть подбитый врагом трамвай знаешь. Стало нам спокойней, а врагам страшней.
До кучи, и во славу ОТТУ (одесского трамвайно-троллейбусного управления), коротко, про другой трамвайчик из страны детства, тем более чудесного, что было оно одесское, которым ездили пляжиться на Фонтан и дачи Ковалевского.
В сезон, к трамваям, бегавшим из центра на Фонтан, цепляли летние, насквозь прозрачные вагоны. Без боковых стенок. Вернее они были, но только до высоты спинок деревянных сидений. Всё остальное было открыто. Крыша держалась на стойках. Для нас предпочтительными всегда были вагончики с металлическими ажурными бортиками. Там стенок вообще не было. А бортики эти, по типу балконных решёток, были литого чугуна. Замечательные.
Через них нас обдувало прохладным ветерком, когда громыхающее чудо разгонялось между остановками в кромешном летнем зное. А если повезло сидеть у самой решётки, то и вовсе было ощущение полёта.
Это, как будто Валерки Ходоса балкон поставили на колёса и мы на нём поехали на пляж. Жаль мне всех, кто не летал на балконах с чугунными решётками.

Конечно же, тогда пацаном, вообще не воспринимал это всё за счастье и радость. Это была, просто жизнь повседневная. Детству не свойственны глубокие оценки и размышления, замечание мелочей, тонкостей. Детством живёшь, не думая. И это правильно. Иначе будет уже не детство, а сразу взрослость.
Это, сейчас в зрелости лет дошло, что жили мы детство в самом настоящем, чистом счастье. И было оно, настолько всеобъемлющим и естественным нашим состоянием, что воспринимали его, как обыденность и нормальный порядок вещей. Дети. Что с нас взять…
Видишь, как оно бывает, шибанёт памяти под зад коленом бархатным чья-то фотка в Интернете, или рассказик чей, и совершенно неожиданно, растеряв вмиг пожизненную беременность бытом, заботами, проблемами и прочей нудо́той, седой дядя отбросит полтинник с лишним лет взад. И начнёт, как угорелый стучать по клаве, не в силах сдержать, совсем, казалось забытое, хлынувшее воспоминание о прекрасной и безмятежной поре жизни.
Ночь давно. Без десяти три. Сна ни в одном глазу, зато мир вокруг стал лучше и светлей. Ведь это всё был я, было со мной. Попробую приспать память о счастье, том самом, мной прожитым в детстве, в морях моих, в путешествиях, в…, в…
Глядишь, и новое позавидует, озаботится, отставать не захочет, и заглянет в гости. Приму его, заблудшее, чтоб было чего и в глубокой старости вспомнить, чем погреться.
И проснусь уже другим, чуть чище, светлей, понятней себе и тебе.
© Copyright: Олег Озернов, 2020
Свидетельство о публикации №220120801766
|
|
Одесса всегда немножко шила

По ночам после работы и мама шила. Все жили в одной комнате, и я привык засыпать под хлопотушное жужжание швейной машинки «Лада» чешского производства, и мамины редкие вздохи усталости. Мне было стыдно, за свою мелкоту и невозможность пойти ограбить сберкассу.
Машинку маме подарил один очень хороший человек.
Где-то у цеховиков мама покупала отрезы тонкой водоотталкивающей ткани, как сейчас помню, с одной стороны чёрная, с другой в очень мелкую чёрно-белую клетку. Из неё мама шила женские плащи. Иногда по два за ночь. Мало чего в этом понимал, но эти плащи казались мне очень красивыми. Это не мешало мне их ненавидеть.
«Цех» работал ночами. Иногда поутру, маму можно было видеть спящей у швейной машинки.
Утром, когда не нужно было идти в школу, с ночными плащами шагал к бабуле через квартал на той же Комсомольской. Затем мы выдвигались к какому-нибудь женскому общежитию медучилища, или другого какого учебного заведения, предприятия, где учились и работали в основном женщины. Чаще всего это было разных концах города.
Дальше моя роль сводилась к тому, чтобы ждать. Бабуля Настя, брала один плащ, завёрнутый в газету «Правда» или «Черноморская коммуна», или другой газеткой с портретами вождей и репортажами о встрече одесситами легендарных китобоев флотилии «Слава», и шла с ним нарушать закон.
Нести в одни двери все плащи сразу было нельзя. Попади с ними в руки бдительных милиционеров по доносу каких-нить активистов, ненавистников красивых плащей на подругах, бабушка сразу была бы отправлена под суд за спекуляцию. Срок там немалый читался. А с одним плащом не страшно. Это уже перепродажа, не подошедшей, к примеру, по размеру вещи. Мол, купила «с рук» дочери, не подошло, - продаю.
Мне всё было доходчиво объяснено заранее. Я сидел с «товарным количеством», где-нибудь неподалёку на лавочке, грыз семки и боялся. Или бродил в квартале от места преступления, проверяясь от слежки, как делали это красногвардейцы из фильма «Молодая гвардия» и герои фильма «Поющая пудреница», «Подвиг разведчика», умевшие превращать «щетину в золото». Везде мерещились агенты ОБХСС. Мы превращали, не щетину в золото, а плащи, шитые бессонными мамиными ночами, в советские дензнаки. Как и положено советскому разведчику, никогда не выпускал из поля зрения дверь, за которой скрылась бабушка, пошедшая на преступление. Это уже, больше не для конспирации, а из-за страха за бабушку, ожидания её скорого появления в распашке этих ненавистных дверей.
Тревога боролась с любопытством в корыстных целях. Как она выйдет?... Если без свёртка в руках, - это счастье, это мороженное на обратном пути, новые тетрадки, книги, вкусная еда. Это бабушка, весёлая, добрая, любящая весь мир, хотя бы на пару часов.
Если со свёртком, - это «сухой паёк» семье, бабушкина грызня с кондуктором, ворчание всю обратную дорогу, а часто, и подзатыльник без повода. Это моя злость, на ничего не понимающих в красивой одежде тёток, не пожелавших купить мамино чудо, обида за маму, не спящую ночами. И ещё мои мечты, о том, как вырасту, и заработаю столько деньжищ, что маме больше никогда не нужно будет работать.
В целях той же конспирации, мы менялись иногда с сестрой, чтобы наши рожицы не примелькались топтунам. В тех же целях, меняли обёртку плащей с газет на листы журнала «Огонёк» или несгибаемую гастрономную бумагу. Бабушка, просто меняла шляпками внешность, походку, легенду, выражение глаз и щёк. Как факт, - нас не вычислили, и мы нанесли советской экономике ровно столько ущерба, сколько хватило на выживание рядовой одесской семьи. Ни рублём больше.
В девяти метровой комнатке без удобств над подъездом, где нас жило четверо, мамины выкройки занимали много места. Иногда вечерами приходилось ждать, и не ставить мою раскладушку, пока мама не закончит кроить на широком подоконнике, он же, мой и сестры письменный стол.
Были ещё юбки, платья, кофты, с маминой фантазией, вкусом, старанием. Но, это только, для очень узкого круга знакомых маминых женщин и близкой подруги Лорки,… земля ей пухом.35 лет дружбы.
Лорка была одесситкой редкостного случая. Безудержная хохмачка, гений общепита ОИИМФ-овской столовой, жизнелюбка и вертихвостка (было чем вертеть, поверьте), смачная во всём, как булка с изюмом, где изюма больше муки.
Мы с ней дрались. Она подначивала и всегда начинала первой. До крови не доходило. Доходило до родства крови. Одесской, густой, ярко живой, наполненной добротой, юмором, неуёмным оптимизмом с запахом цветущих акаций и летнего моря.
Лорка всегда была взрывом в сто килотонн тротила. Все, кто попадал в зону поражения, не переставали поражаться животворящей силе этой ударной волны, и с трепетом ловили осколки, пряча их по карманам душ своих благодарных. Говорят, взрыв породил Вселенную. Лорка-взрыв порождала свою Галактику во Вселенной по имени Одесса.
И было нам всем счастьем вращаться планетами и спутниками в той Галактике.
На примерках мама заставляла Лорку сочинять и декламировать стихи. Это было непременным условием пошива одёжных деликатесов. Не спрашивал, зачем ей это было нужно. Но строя догадки и зная обеих, могу предположить, что таким образом, матушка заставляла Лорку периодически замолкать и сосредотачиваться, хоть на чём-нибудь.
Мама моя, человек мудрый, и такой была всегда. И в шахматы всегда хорошо играла. Стихосложение, оно сосредоточения требует. Вот она Лорку так и сосредотачивала, чтоб была возможность сосредоточиться самой. Как иначе остановить взрывную волну.
Плюс к тому, женщины в нашей семье любили и знали стихи. Таки по сей день.
Юдашкин в те годы ходил в младшую группу детского сада, Зайцев, только познакомился с Карденом. Заставляли ли они клиенток на примерках читать и придумывать стихи, - тайна великая есть.
Вот такие воспоминания может навеять одна фраза, - «Одесса всегда немножко шила»(с).
Бикицер спросите меня, а что же папа?
Удивитесь, но папа таки был. Папа, не покладая рук, работал работу рабочим на кожгалантерейной фабрике с 8 до !7.00 за 90 рэ в месяц, и тем был счастлив и горд. Папа безумно любил футбол, газету «За рубежом» и себя. Что из перечисленного папа любил больше, осталось так и тайной для всей семьи.
Но, поскольку к шитью, и всему остальному, кроме работы на фабрике, он отношения не имел, дальше о нём здесь ни слова. Это другая история.
Рига. Декабрь 2018г.
|