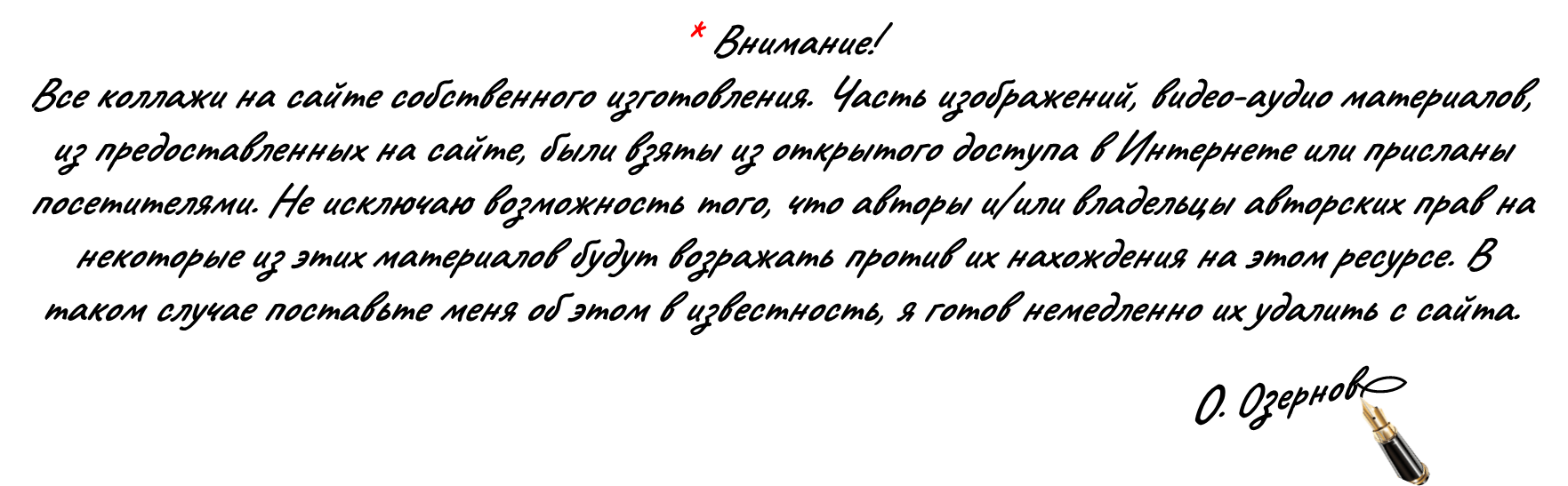АЛИКОВЫ ДНЕВНИКИ
(часть 4)
(см. сноску *)
«Аликовы дневники» (отрывок, черновик). На правах рукописи ©
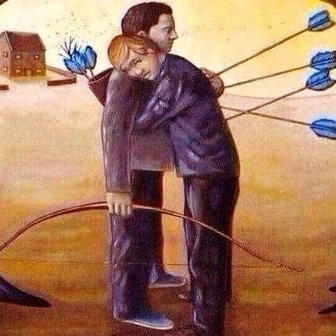
Не помню подарков в детстве. Тем более их не было от деда Жени, иначе не забыл бы. Но однажды случился, потому остался в памяти навсегда. В один из моих Дней рождения дед, вдруг, позвал в гости, что было впервые в семейной истории. Дед Женя жил в переулке Чайковского сразу за Оперным театром, в редко отдельной квартире с роялем. Последняя его жена Аннета Петровна преподавала класс фортепьяно в одесской консерватории. Нашу семью она не любила, как и бабушка Валя. В их доме пахло академической музыкой, валерьянкой, и орденами деда. Ещё центрогородским снобизмом, и советским достатком выше среднего. Всё в доме знало свои вековые места, и сколько помню, никогда их не меняло. По стенам висели искусные картины-вышивки гладью, крестиком от бабушки Вали в соседстве с фотографиями деда в будёновке, незнакомыми усатыми военными, и с чем-то ещё из войн страны Советов. Старинная мебель, фарфор, перламутр, чёрный лак, пейзажики, натюрморты. Трогать что-либо, тем более открывать крышку рояля, входить в другие комнаты, кроме гостиной и кухни, негласно не позволялось на уровне недопущения, даже мысли об этом. Непривычный молдаванскому мальчишке запах, и какой-то другой мир из кинофильмов. Все редкие разы, что там бывал, мне всегда было молчаливо и неуютно. Не вдаваясь в подробности, за детским неумением вдаваться в них, чувствовал себя бедным родственником, приехавшим из глухой деревни. Таким и был. Но чуть.
В тот памятный День моего рождения, дед, не тратя слов, вручил тяжёлый, альбомного размера увесистый свёрток. Благодарно ткнувшись в его щетинистую щёку, внук счастливо сбежал, сгораемый от любопытства поскорее узнать, что в том свёртке. Никто и не держал, чая с тортом в программе визита не было, его цель была исчерпана. Похоже, дед спешил успеть свершить чудо, до возвращения супруги из консерватории. Терпения моего хватило до первого подоконника в парадном. Свёртку тоже не терпелось сбросить с себя тесную бумажную бечёвку и толстую обёртку. И вот оно!... Два кляссера! Один, большой, тяжёлый тёмно-синий, другой - вполовину меньше и тоньше, и тоже синий, но посветлее. В большом, на первом листе, под прокладкой из туманной кальки идеальным строем красовалась серия почтовых марок с семейством фантастических бабочек. В меньшем, и тоже под калькой - почтовый блок-марка с четырьмя первыми космонавтами в шлемах, и три рубля, несметное по тем моим мальчишечьим временам, богатство. Глаз не оторвать, дух не перевести! Жизнь открыла дверь в новый, неизведанный, и сразу понятно, чудесный мир. Конечно же, на тот час я уже знал сладковато-химический вкус, слюнявленной почтовой марки. Но здесь было другое. Марка перестала быть копеечной оплатой на конверте, которую клеил с мамой на почте. Марка обрела новое, завораживающе красивое и таинственное значение. С ней в жизнь вошли азарт коллекционирования, новые мечтания, познавательная красота, и за ними вприпрыжку строгость, педантизм аккуратность, магическая избранность редкого действа. Захватило. Целиком и сразу.
В классе и во дворе филателистов не водилось. Наверное от того, что удовольствие было не из дешёвых. Зато, они кучковались заговорщической толпишкой на углу Ленина и Чичерина , местами на Соборке, и в парке Шевченко. Там вершилось много коллекционерских тайн и интриг, обманов, трагедий, великолепных споров и счастливых находок. Всё было из-под полы, из-за угла, с оглядкой. И всё было вкусно.
Вот, ты с трудом, не доедая, почти детективно собрал, аж, восемь марок серии «Редкие тараканы Мадагаскара» , а девятой, последней - нет, хоть не живи! Серия неполная - считай ничего. И кто продаст одну марку из серии?! Попробуй, найди такого! Дело случая. Здесь, только обмен спасает, он главное, он правит жизнь филателистскую. Выхаживаешь, высматриваешь. В загашнике носишь ещё десяток серий, разрозненных - две, три марки. Может, закроешь серию, может, нет, ещё не решил. И вдруг, вон, у того в мятеньком пиджачке, о счастье - есть она, твоя заветная! Но!... Не продаёт! Согласен обменять, только, на первую марку серии «Половники древней Руси» или предпоследнюю серии «Шумеры Крыжополя». Ну, нет у меня ни половников, ни шумеров, блин! Зато, вспомнил, что замечал нужный «половник» на входе в толпу у деда в тельняшке под кителем времён адмирала Ушакова. Хоть бы он не ушёл! Бежишь, с замиранием сердца ищешь деда. Находите, чем обменяться, ему интересным, и обратно к «пиджачку». И вот она заветная, с последним тараканом - твоя! Всё! Серия полная!
И дома её трепетно перекладываешь в «чистый» кляссер. Она теперь гордость и настоящая ценность. Изысканная приятность наступала потом в разглядывании «чистюль». В красивом путешествии с ними по миру наук, красот, великих людей, кораблей, животных, природы, всего, чем богат этот необъятный мир. Восхитительно строгое разнообразие, ряды, трудом добытой красоты и познаний. Упоительное увлечение, полное радостей, кропотливой работы ума, разочарований, азарта, мечтаний. Унесло туда с головой бурным потоком. Похудел, даже. Итак, в упитанных не числился, а тут, и вовсе штаники на ходу терять стал. Кормовые школьные полтинники, не частые перепада́лова на мороженное и кино всё больше конвертировались в марки. Прекрасный наркотик.
Марки нравились всем избранным, кто был удостоен счастья созерцать из «в моих руках». Взрослые радовались, поощряли, как могли. Ребятня восхищалась, уважала, и примеряла вкус на себя. Через года полтора толстый, «чистый» кляссер был полон чудес. Пустовал в нём, только последний лист. Дед о моих марках забыл, не интересовался, что было обидным и отдавало несправедливостью. Вопрос с приобретением нового «чистюли» вставал ребром, острым и размера огромного. Всадить его между прочими рёбрам семейного бюджета не взялся бы ни один трансплантолог современности. Почки, сердце тогда уже пересаживали, рёбра - нет. Купить за свои «полтинники», значило голодать в школе целый учебный год. При этом, полностью остановить оборот марок в природе. К такому моя молодая душа и с ней организм, готовы не были. Просить что-либо у деда, в семье было фатально не принято. У родителей - стыдно. Вобщем, ребро торчало, и мешало ходьбе с дыханием заодно.
Главным сочувствующим в марочной эпопее, был Генка Савранский, друг, одноклассник, сосед по парте и двору в квартале от моего дома. Генкин отец - одноногий инвалид войны. Много пьющий мужчина средних лет, непрестанно курящий. В подпитии, громко вещающий окопно-металлическим басом нравоучения и угрозы врагам внешним и внутренним. Мать - сухощавая одесская женщина, тянущая из слабых сил семью, клявшая войну, мужа, любую погоду, и всех, кто не она, и её непрекословно гениальный сын. Нужно ли говорить, что она меня не любила… Меня вообще, не любили, ну, как минимум опасались, все матери моих школьных друзей. Это, из-за моей официальной харизмы размондяя, и школьного хулигана. Гриф - неблагонадёжный.
Генка, действительно, был мальчишкой, подающим соцлагерю большие надежды. Прекрасно, и опережая нас, одноклассников, развит физически. Быстрее всех бегал на время три километра, прыгал вверх, и лазил на канат. У него первого в классе начала пробиваться щетинка под носом, и поросль на широкой груди. В прыжках, забегах и лазании голова не отставала от остального организма. К концу восьмого класса Генка бойко шпрехал на репетиторском немецком и школьном французском, неплохо успевал по другим предметам. Грассирование Эдит Пиаф рядом не стояло с Генкиным. И вряд ли она, в том же возрасте прочла, в подлинниках, столько прозы и стихов франко-германских классиков, сколько читал и цитировал иногда Генка.
С класса пятого вокруг него витала аура общей целеустремлённости без определения конкретной цели. По чаяниям мамы, и его личным, он готовился в великие люди. В чём великий, откладывалось на потом. Обычное себе строительство прочного фундамента величия, в отдельно взятом, советском школьнике.
Тогда, мы были не просто соседями по парте «на Камчатке», мы были друзьями. После школы каждый день ещё и ходили вместе до дому. В том пути семиквартальном творилась, чуть не основная, часть нашей дружбы. И да, глупо перебегали дорогу перед носом, летящих под уклон к Высшей мореходке, трамваев; мечтали, ссорились, соперничали в спорах, бывало, до драки; лазали, по там и здесь возникавшим траншеям с толстыми трубами, по стройке нового учебного корпуса ОИИМФ-а; обдумывали планы ночного ограбления одесского Холодильника №1 напротив института. Как не обдумывать, если там делалось самое вкусное в мире мороженое?!
Нельзя не увлечься марками, если твой друг, чуть не каждый день делится с тобой новым, интересным, увлекательным, таким красивым и необычным. Генка, конечно же, не остался в стороне. Мы подолгу разглядывали их на продлёнке, обсуждали сюжеты, я делился с ним своими марочными планами и мечтами. Видно было по всему, Генке они очень нравились, он радовался каждому пополнению коллекции, каждой новой красотуле с ровными зубчиками .
Тот осенний день был разморенно, прело тёплым. В углу школьного двора чадил синим дымком привычный кирпичный мусорный ящик, по форме напоминавший, огромное растолстевшее пианино, накрытое балахонным чехлом. Дым лениво поднимался, из его открытой стальной крышки, в пасмурно слезливое небо. К нему я шёл, выбросить ненужное после чистки портфеля и парты. Добавил ящику огня. Огляделся. Смотреть в такое небо не хочется. День, настроение и всё вокруг серое, замирающее. Казалось, продлёнка никогда не кончится. Конец октября, он такой. Инерция летних каникул, и сентябрьские радости встречи с одноклассниками - в прошлом. Впереди долгий учебный год, а до сладких предвкушений новогоднего праздника ещё далеко.
Поднялся в класс. Там друзья-продлёнщики уже складывают портфели. Наконец-то, по домам! Мой, собранный, давно ждёт, когда вынесу его из скипидарно-казённого школьного амбре, на чистый воздух улиц. Портфели тоже устают от школы.
Генка предложил на трамвай, я настоял топать пёхом. Домой не спешилось, там витает очередной напряг между родителями. Хотелось порадоваться послешкольной свободой, пошпынять ворохи осенней листвы, потрепаться с другом, кошек погонять, собак погладить, выпить газировки с сиропом. Сразу за воротами школы настроение исправилось с двойки на четвёрку. Чтоб не упустить этот момент, из низких облаков, даже, выглянул любопытный луч солнца. Шли, болтали, размахивая портфелями. И тут поймал себя на том, что размах у меня, какой-то неправильный. Рука за портфелем не так идёт, лёгкий он какой-то, в разгон не тянет. Ну да… И худой непривычно. Там же столько всего… Одни марки пол портфеля занимают! А закрыть его всегда стараний стоило.
За миг до открытия свободных, вялых замков, я уже знал, что случилось нечто непоправимое. Липкий холод в спине подсказал. Марок не было. Всё было, а их - нет. Их украли. Любые другие варианты исключались. Что-то новое ворвалось в жизнь. И за всем, что было до того, кто-то безжалостный поставил жирную точку. С этого момента начался новый её отсчёт, в неё вошла растерянность размером со Вселенную. Ещё унижение, превращающее тебя, в точку бесконечно малую. Умноженное одно на другое, в результате даёт ноль. Сто раз знаю, видел в кинофильмах, читал, но было это всё отвлечённым, не настоящим, казалось придумкой. Милый мир, я так тебя любил…
Нужно, что-то делать, куда-то бежать, продолжать дышать. Что, куда, как? Голова пустая, ноги ватные, воздух затвердел, и не входит в лёгкие. С Генкой, что-то похожее. Столбняк столбняковый.
Как-то отдышались, поползли дальше. Вычисления, вспоминания, предположения, догадки. Следствие вели колобки. Когда выносил мусор во двор, марки были на месте. Тогда, кто и как их увёл?... Перебрали с Генкой каждого, из находившихся в классе. Не мог же кто-то войти и украсть. Какая противная, стыдная штука - подозрения в краже! Потому что, в поиске вора, предполагаешь таковым людей, которых до этого, и в голову бы не пришло определить в воров. С кражей приходит чувство вины за подозрения.
Все эти осознания, тоже впервые. Теперь с ними нужно жить. Они навсегда. Навалившись скопом, впервые прочувствованные, они выросли, в непреодолимую гору безнадёги. В её подножии на похоронах веры в человечество и святую справедливость бытия я разрыдался. Генка мямлил, что-то глупо успокаивающее, пытался отвлечь ерундовой болтовнёй, сам готовый расплакаться от сочувствия к другу. Он шёл рядом красный и растерянный, как его, мятый пионерский галстук. Моих рыданий и соплей хватило на квартал. Ещё пол квартала обсыхал и зверел. И это безадресное чувство ярости, тоже было новым, дотоле неведомым. Знать бы, кто это сделал!!!... И что? Ну, узнал, что дальше? Генка, будто почувствовал во мне сей приход, и тоже задавал этот вопрос. Но, строить предположения не получалось. Трудно это детским умам, без видения конкретного объекта ярости. Всё на уровне новых почти неосознанных чувствований.
Вариант обращения в милицию, к школьному официозу обсуждали. Коротко. Сошлись во мнении о его бесполезности. Так и дошли в раздавленных эмоциях до последнего квартала, где наши дорожки разбегались по домам.
И без того тяжёлая дверь парадной открывалась с трудом, от внезапно нахлынувшего чувства стыда. Наверное, шли мы с Генкой долго, потому что мама уже была дома, и явно начинала волноваться моим отсутствием.
- Что случилось?
Часто слышанный мамин вопрос, в этот раз прозвучал без привычной строгости, мягко, почти вкрадчиво. Её безотказный рентген, чувствование меня насквозь, были матерински безошибочны. Рассказал. Чуть рёвно, но коротко и по пунктам.
- Мой руки, садись, поешь.
Пока ужинал, заставляя себя, чтоб не огорчать маму, и не различая вкуса еды, она успокаивающе сидела напротив. Пару раз взглянула на отца, как всегда, читавшего газету, задала мне ещё несколько вопросов, потом устало встала, накинула плащ, и со словами - «Я быстро», ушла.
Необходимость доедать ужин сразу отпала. Грустное занятие, если в молчаливой комнате, и с человеком, читающим газету.
- Пап, я пойду, погуляю?
- Давай, только недолго! - не отрываясь от чтения.
Во дворе никого не было, пацанва́, не дождавшись меня в обычный час, ушла в улицы. Оно и к лучшему . Пошастал по весям в жалких попытках смирения со случившимся, жёлтая листва под ногами в помощь. Растерянность - немножко сестра смирению, и простительна детству. Погружение в её серую, опустошающую неопределённость, настолько противно, что познав эту смурь в детстве, никогда не захочешь испытать её в будущем.
День от меня устал, и решил сбежать в ночь. Я взаимно устал от него, но куда ж сбежишь от себя…
С неба моросливо сползли октябрьские сумерки. Добрёл домой. Памятник папы с газетой сидел на прежнем месте. В окружающем его ландшафте, добавилась кружка с чаем, и расстеленная к ночи тахта. Прошёл мимо, стараясь не задеть огромную газету, уселся за свой подоконник. Так, без дела, просто уставившись в мутное от мелких дождинок стекло. Скоро пришла мама. Сосредоточенная и злая почему-то. Кивком головы позвала на кухню. Усадила рядом на табуретку, обняла за плечи. Немного помолчав, устало вздохнула и произнесла тихим голосом,
- Сынок, не ищи, твоих марок больше нет. Будет другое, поверь. Надо это пережить, ты ж у меня - мужик? Учись терять, пригодится. На слове «мужик», обняла ещё крепче и прижала мои вихры к груди. Сразу стало тепло и спокойно, всё пережитое в этом страшном дне, растворилось в материнском тепле. Резкий звук, складываемой газеты за дверью, прервал лечение души. Не иначе, отец решил готовиться ко сну. Мама встрепенулась, развернула меня за плечи к себе, и не отпуская, глядя в глаза сказала,
- Обещай, что не будешь ничего ни с кем выяснять, и пытаться их найти!
- Почему, а вдруг удастся…?
- Просто обещай, и не спрашивай! Их нет.
- Ладно, мам, обещаю!
Утром, до начала уроков, коротко собралась наша команда. Рассказал, о случившемся, моим верным Вовке с Валеркой. Верного Генки с нами не было. Заболел, наверное, или опаздывает. Не иначе, если его батя опять бузил всю ночь. Такое бывало. Выражения их лиц сказали много больше, чем выражения, слетавшие с их языков. В целом плохо было всем, будто мы скопом нечаянно влезли в кучу, несмываемой, липкой грязюки. Забившие, было, бурные потоки попыток шерлокхолмовской деятельности, остановить удалось с трудом. Был не понят, с невысказанным оттенком обиды, и подозрений меня в подозрении их. Они знали, что для меня эти марки, пытались глупо сострадать, но их жалость, только, увеличивала потерю, и потому, злила. Хватило ума успокоить ребят в недопущении, даже, мысли о том, что такое предательство возможно, - наша команда вне любых подозрений. На продлёнке Ирка Заднепровская сказала, между делом, что видела в школе мою маму. Решили, что показалось.
Генка не появился и на следующий день. Разумеется, после школы решил заглянуть к другану́, на узнать, вус тра́пилось . Заодно, рассказать, что меня, непонятно с чего, классная пересадила к Алке Кани́ке, аж, на первую парту, и что мой перелёт с «Камчатки» на передовую удивил своей загадочностью всех. На пороге встретила, скандально всклокоченная, в очковых синюшных кругах вокруг глаз, Генкина мама. В дом не пустила:
- Геннадий болен, так в школе и передай! И нечего сюда нахаживать… всяким!!!
«Всякий» испытал полное недоумение, которое было замечено, лишь, громко хлопнувшей перед его носом, дверью. Да, похоже, опять Генкин отец вышел из берегов… Жаль.
Через несколько дней Генка объявился, весь какой-то мятый, молчаливый, целиком погружённый в школьную программу. Сидел на «Камчатке» один. Стал избегать общения. С продлёнки его забрали под предлогом начала репетиторских занятий на факультативе по немецкому языку, и вступления в серьёзную секцию лёгкой атлетики, при чём-то там, тоже серьёзном. В той осени дружба в нашей команде остыла и похудела на одного дружбана́. Причём, настолько, что в один из дней, после уроков Генка с Валеркой при мне сцепились в драке по пустяковому, непамятному поводу. Сцепились в пустом коридоре под спортивным залом жестоко, не разнять, как ни пытался. Было в той драке, двух, вымахавших амбалов, что-то животное. Отколотый от командного айсберга Генка, вплотную занялся достройкой фундамента своего будущего величия . А я, где-то через год, закончив со скрипом восьмой класс, уехал поступать в мореходку.
Тайна, если она не выдумка, - это всего лишь, спрятанная временем и обстоятельствами действительность. Раз действительность, значит, обязательно придёт время, наступят обстоятельства, и тайна перестанет быть тайной. Так и случилось с моими, таинственно исчезнувшими марками. Много после, в один из моих курсантских отпусков мама рассказала. С её слов картина мне нарисовалась так:
В тот день и вечер она пошла к Савранским. Дверь на первом этаже, выходящая во двор, была не заперта. Дом начинался кухней, с каменной дровяной плитой. Из-за двери комнаты за ней доносились Генкины вопли, крики его матери, отцовский мат. В плите, со снятыми чугунными конфорочными кольцами, ярко догорали мои кляссеры с марками. Ей удалось кочергой и чем-то ещё выудить из огня, обгоревший уголок обложки большого кляссера. Сбила с него огонь, завернула в старую растопочную газету. Позвала хозяев. Выскочила Генкина мама, вышел на костылях отец в длинных трусах и майке. Мама, ни слова не сказав, показала им огарок моего сожжённого счастья и вышла в пустой двор. Родители Генки бросились за ней, но дальше, отец замахнулся костылём на жену, и глухо прорычал, - Иди в дом! Сам, спешно ковыляя за моей мамой. Его полуголый вид в сумерках мокрого осеннего двора, жалкая попытка бежать на костылях маму остановили.
- Рита, подожди, ради Бога! И ещё что-то, умоляюще лепетал инвалид.
- Давай поговорим, пожалуйста, не уходи.
Мама остановилась, проводила его к двери.
- Оденьтесь, я подожду.
Через несколько минут он вышел уже в брюках, с заткнутой за пояс одной из штанин, и накинутой на плечи плащ-палатке. За ним шла жена, несла домотканый коврик, его постелила для мамы на лавке у дворового стола под деревом, и ушла в дом. О чём они говорили, подробности мама не рассказала.
И марок нет, а с ними и части детства, украденной другом Генкой, с которым сидел за одной партой не один год.
А Генка... успешно закончил десятилетку, иняз ОГУ, и сделал карьеру в одесском КГБ. Но спился вщент, и был списан на гражданку. Жаль. Талантливый был мальчик. Хваткий.