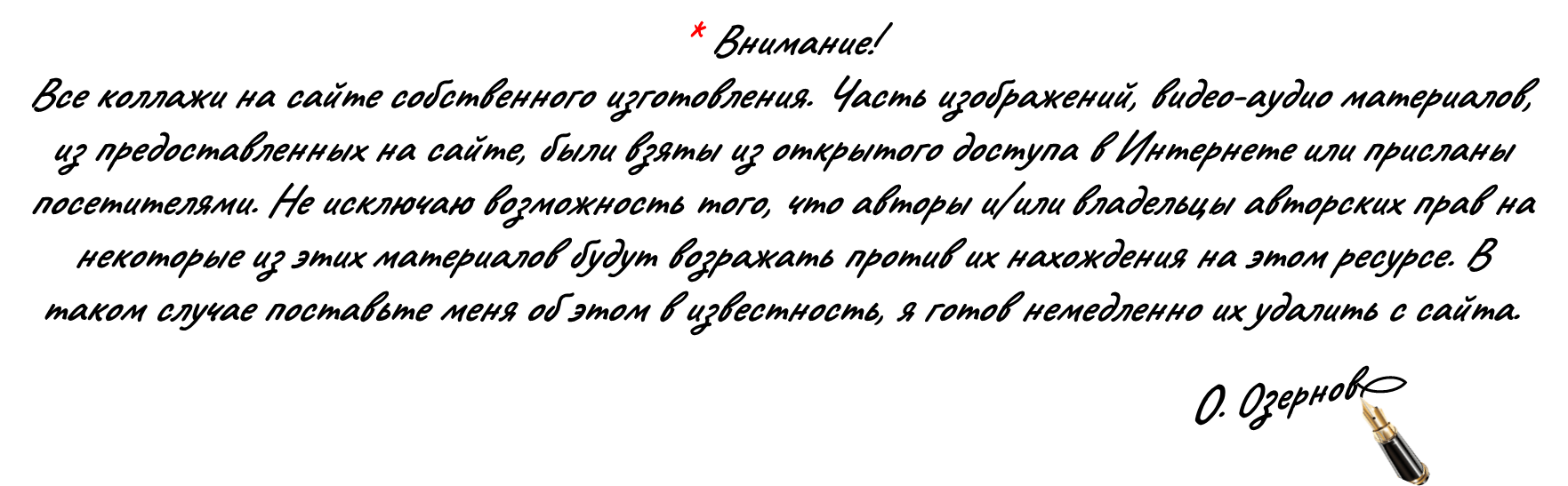АЛИКОВЫ ДНЕВНИКИ
(Часть 5)
(см. сноску *)

Вы когда-нибудь ходили, по пролитой битумной смоле, разогретой жарким одесским солнцем, и лишь чуть начинающей пристывать в тени, заодно с пластилиновым асфальтом под ней?
Мне довелось однажды, было дело. С пацанами дворовыми гоняли в казаков-разбойников по стройплощадке нового корпуса водного института (ОИИМФ). В азарте игры, прыжком заскочил в такое, с виду безобидное, под пылью и не понять.
Ужас накрыл и растерянность, которых до того не знал. И безнадёга, в сравнение не идущая с той, испытанной, в мае, когда меня за драку исключили из школы до конца учебного года.
Сандалии!!!
Мои почти новые, всего второе лето хоженые, намертво впечатались в эту чёрную жуть. Пацаны собрались, ржут, гогочут придурки, варианты на выбраться насыпают, один подъёб…стей другого. Шурика из «Операции Ы» весело вспоминают. Не до веселья мне, сандалии не сапоги ж резиновые!
А меня мать убьёт. Вторых нет и точно не предвидится. Через месяц нам с Ларкой в школу, и, как назло, обувь школьная сносилась, на новую деньги ещё искать не сыскать. Откуда сандалии возьмутся…
Выбираться нужно, ну, и дёрнул одной ногой в попытке вырваться из этой заразы. Ага… Подмётку засосало намертво, ремешки почти все разом и оторвались. В одном месте с мясом, не по швам. Да, так, что даже сапожник дядя Ваня, инвалид войны, из тридцать пятого, что через двор от нашего, хрен пришьёт. Он всё может – это не пришьёт. Капец полный.
Подмётка уже кое-где смолой по краям наплывает. И ступням жирно от той смолы, пятки тоже уже влипать начинают по полной. Медленно пытаюсь вытащить второй сандаль, ещё не зная, куда ступить-то дальше.
А он так, очень нехотя, туго высвобождается, и за ним тянутся тысячи чёрных противных нитей смоляных, не пускают его на свободу, стаскивают с босой ступни. Вот-вот и у него подошва оторвётся. Перестал тянуть.
Успокоился, осмотрелся. Неподалёку бочка железная на кирпичах стоит, кострище под ней стылое. Вся в потёках смолы, парой досок сверху накрытая и куском рубероида.
Попросил пацанов, поднесли доски. Сандалии выковырял, отяжелели до безобразия. Ноги, руки в смоле. Домой ковылял босым, прилипая к асфальту, пока смола пылью не обросла.
Картина не для слабонервных. Пацанва весело сочувствует, советами, подколками брызжет. «Олега ласты склеил! Ха-ха».
Ха-ха от матери огрёб по полной. Керосином примусным смыл с себя чернь, сандалии боль-мень очистил. Потом долго намывал под дворовой колонкой водой с хозяйственным мылом. И всё-таки понёс к дяде Ване, надежду не теряя.
Мама сказала – Отнеси, может, сделает. – Так вечер уже, поздно. – Неси, он не спит.
Дядя Ваня привычно пьян, он вообще трезвым мне редко помнится, но в этот раз язык у него заплетается больше обычного, и сам он раскачивается сидя, трёт культю свою руками. Когда дядя Ваня напивается, у него сильно болит нога, та, что отрезанная.
Он трёт культю живую, и ту, что ниже, деревянную, похожую, на перевёрнутую горлышком вниз бутыль самогонную из «Неуловимых мстителей». Словно отрезанную рукой ищет, растереть пытается. Бр-р-р, видеть – мурашки по коже.
В его каморке-веранде – пристройке на первом этаже маленького дворика, застеклённой копчёными стёклами, сумерки ещё мрачноватей. Всё завалено разномастной, ждущей рук, или уже отремонтированной обувью, кусками кожи, каким-то непонятным скарбом, всем-чем. Кучи, кучи…
Есть пара мест относительно чистых и упорядоченных. Это закуток у светлой стены веранды с дощатым столом о четырёх тонких водопроводных трубах, накрытый светлым куском толстой фанеры. И угол стены сбоку над ним, увешанный разными шаблонами сапожных выкроек из плотной пергаментной бумаги.
Там же висят на гвоздях разных размеров ну очень серьёзные ножницы, длинные, тонкие, пара рогатых, похожих на парикмахерские, и тяжёлые, широкие, точно такие, как у портнихи Люды, подруги маминой с кольца 28 трамвая.
А ещё, деревянные колодки, повторяющие форму ног ниже колена, разрезанные вдоль на две половины, между которыми непонятным мне образом устроены длинные винты с ручкой на верхнем конце. Совсем такой, как на токарных станках, виденных не раз в окнах мастерских Автодорожного техникума напротив нашего дома.
Раньше, сразу после войны, дядя Ваня шил сапоги, хромовые, офицерские, и они считались одними из лучших на районе. Все знали. Теперь редко, только для заказчиков из Котовска и ближних к нему сёл, где у дяди Вани проживает то ли родственник, то ли однополчанин. Он их и присылает иногда.
Офицеров стало много меньше, те, что есть, галифе, сапоги уже не носили, а с цыганами – последними из дяди Ваниных заказчиков, что-то там не задалось. Слыхал – обидели они мастера однажды несправедливым расчётом за работу, он их и погнал костылём, еле отбились. Так во дворе говорили, там врать не будут.
Второе относительно ухоженное место – самодельный рабочий стол. Там тоже всё навалом, но осмысленным, могущим сойти за рабочий порядок, в котором, в отличие от всего окружающего, насквозь пропитанного заброшенностью, есть все признаки работного дела.
Живой, полированный частым пользованием, и потому не тронутый ржавчинкой, инструмент. Фигуристые молотки-молоточки, железные, деревянные рашпили, шила-шильца хитрые с отверстием на конце, как на швейной иголке, только размером и под нитку толстую, и под дратву.
Сапожные самодельные ножи с короткими косыми лезвиями, рукоятками, толсто обмотанными, давно затвердевшей х/б изолентой. Всевозможные баночки, коробочки с разными хитрыми гвоздиками, заклёпочками и чем-то ещё подобным, чему названия пока не знаю.
Больше всего здесь подковок всяких, от размером с три копейки до тяжёлых сапоговых. Подковки нам пацанам в радость, мы ими искры на булыжной мостовой высекаем иногда, цокать ими приятно, и каблуки долго не снашиваются, косыми не становятся.
Тут же жестяная банка от леденцов с кусками воска и обмылком со следами полосными от дратвы, пропущенной через него. Перед шитьём Дядя Ваня так зажиривает дратву мылом, чтоб скользила. А ещё коробка из-под обуви, полная мотками, катушками ниток, кусочками кожи, дерматина и резины разной толщины.
На этом столе Дядя Ваня никогда ничего не ищет, сразу точно тянет руку, зная, где лежит нужное в работе и может достать его с закрытыми глазами. Проверено.
К столику всегда прислонена сапожная лапка. Тяжёлая, один раз пробовал поднять. Название узнал от дяди Вани. Она напоминает худую человеческую ногу, только без пальцев и железную, перевёрнутую ступнёй вверх. Такая же лапка, но короткая стоит на столе, напоминает вычурную наковаленку.
Несмотря на мощный инструментальный вид, лапки меня порой то смешат, то наводят на всякие фантазии. Всё время представляется продолжение ноги под столом или полом – и кто это там свою худющую ногу на свет выставил, Кащей, или Баба-Яга, или инопланетянин? И что он там делает вверх ногами, стоя на голове?
Большую Дядя Ваня ставит между ног, надевает на неё туфлю, ботинок и правит им подошвы нараз. С надетой на неё туфлёй она кажется ещё смешней.
На лапках дядя Ваня всё и ремонтирует. Ах, как ловко! У него вообще всё ловко получается, и есть мне в этом какая-то загадочность. Интересно, и жутко нравится. Как может не нравиться инструмент, люблю, когда его много разного.
Он позволяет делать всё, что невозможно сделать голыми руками, может превратить фантазии в реальность! Люблю смотреть, как точно управляется с ним дядя Ваня. Больше всего нравится, как он управляется с ножом, острым, как бритва.
Наложит толстокожую, или резиновую заготовку подмётки на старую, дырявую и запросто так обегает им вокруг подошвы, срезая лишний припуск в одно плавное движение, и сразу по всему контуру. И этот обрезок, как кожура с яблока, сходит непрерывной полу-спиралью.
И, главное точно так, редко, когда кое-где подправлять-подрезать приходится. А по резине его ножи вообще словно плывут, кончик ножа, как плавник акулы по воде скользит.
Принесу мамины туфли набойки поставить, или папины ботинки прохудившиеся – новую подошву поверх старой наклеить, и сижу смотрю. После его рук любая обувка, как новая и носится потом долго.
Дядя Ваня картину и туфту никогда не гнал, делал всё медленно, не суетливо. Суровые молчуны спешки не любят. Одесса город болтливый, как все южные, и так же суетлива. Это не суровый север, где всё больше молчуны обитают.
Объяснимо – на морозе рот не пооткрываешь, снегом занесёт, сосульки образуются. На юге – напротив, ртом открытым прохлады организму добавляют. Южане только что языки не высовывают, как собаки в жару.
Отсюда и болтливость, заодно с неприязнью к молчунам. Сразу кажутся местным подозрительными или приезжими из Сибири, где в тайге живут медведи и люди лагерные.
Дядя Ваня – молчун в основном со взрослыми. С ребятнёй поговорить может. Вопросы задаёт, на наши отвечает, и почти всегда интересно, когда поддатый слегка, т.е. всегда, ещё и весело.
Если круто на пробку наступил, тогда с ним лучше молчать, и стараться не обращать внимания на длинные тяжёлые вздохи, скупые слёзы, падающие в тишине на очередную, ремонтируемую подмётку, и громкие хэкания, то грозные, то грустные и досадные. А лучше было в такие моменты, просто уйти, оставить одного.
Дядя Ваня на районе очень важный всем человек, потому что от сквера Мечникова и до Водного института, он главный волшебник по лечению и оживлению обуви. Те, кому он важен, к нему с уважением. Наши мамы-бабушки передавали, при случае, что-нибудь по-семейному вкусное, особенно на праздники.
Мы ему иногда фруктов, краденных в пере́сыпских садах, приносили, груш там, абрикос, винограда. Арбузов, дынь, заработанных на выгрузке из машин и подвод в клетки-киоски сезонные возле гастронома на углу Ольгиевской и Подбельского.
Многие из тех, кто изношенную обувку не ремонтировал, а сразу покупал взамен новую, старались обходить дядю Ваню стороной с плохо скрываемой брезгливостью. Замечал не раз.
Таким мадамкам в шубах или с чернобурками на шеях, пу́рицам золотозубым, толстошеим, вид Дяди Вани был поперёк натуры, им пахло от него сапожничеством и войной. Фи-и-и…
Зато, как встал на уши наш квартал той весной 9 Мая! Накануне везде объявили, что теперь это будет выходной по стране, с парадом Победы на Куликовом поле, и во всех городах-героях.
Рано утром дядя Ваня выступил из своей берлоги в пилотке, гимнастёрке и галифе, грудь в орденах-медалях, пошёл строевым костыльным шагом на 28-й трамвай, чтоб поехать на парад! Впервые его таким увидели и все обалдели.
Георгиевский крест, два – Славы, два – Красной звезды, один – Отечественной, медали – Отвага, взятие Берлина, Праги. Иконостас! Сверкают на солнце майском.
На костылях, мытых с мылом, но как шёл! Далеко забрасывая костыли вперёд на каждом шаге, и потом, как бы взлетая на них всем телом, и потом, переваливаясь на них, словно в прыжке. Не как обычно, мелкими не размашистыми шагами, натужно подтягивая тело к костылям, отчего выглядел жалковато и невольно вызывал сочувствие прохожих, но мощно, гордо, уверенно.
Я с ним попутно на торжественную линейку до школы ехал, вместе садились в трамвай. Кондуктор с него билет не спросила. Подойти не решился – люди окружили, не до меня ему было.
Вечером с сестрой пришли поздравлять, а у него полно цветов в мастерской, сидит в слезах, в одну точку смотрит неотрывно. Сильно датый.
Оставили вкусняшки мамины и ушли. Баба Маня с ним была, соседка, она его смотрит-помагает по хозяйству. Махнула нам, мол, идите, ребятки, ни до кого ему сейчас.
В этот раз, с сандалиями моими, сижу, жду, вдруг дядя Ваня оклемается, меня заметит.
А запах – да! Тяжёлый, резкий. Самый сильный – клея 88-го. Ещё плесени, хвойный – скипидара, кож, гуталина, резины, алкоголя и запустения. Очень сапожный, запоминающийся навсегда.
Я к нему долго привыкал, потом, зайдя со свежего воздуха, уже через несколько минут нахождения в мастерской почти не принимал за неприятный. Неповторимый. Один из родных запахов детства.
Жду. Смотрю на деревянные костыли в углу, с истёртыми, засаленными подмышниками, овощной ящик с пустой стеклотарой. Дядя Ваня собирает её и сдаёт в тарный пункт на углу Мечникова и Матросского спуска жадному, и потому нечестному приёмщику со смешным прозвищем Сердюк. Так его в кулуарах, будуарах и на тротуарах звали в народе.
Иногда Дядя Ваня просит нас снести бутылки на сдать и купить хлеба, или китовой колбасы, папирос «Беломорканал», индийского чая со слоном на пачке. Спиртное покупает сам, или кореша соседские – ветераны тоже, иногда подносят.
В нашем районе Молдаванки Сердюка не любил никто, и даже собаки дворовые, при всей их занятости выживанием и размножением, считали не пустым занятием облаять и обкорнать ему штанины в попытках покусать.
Часто собирались перед его киоском, тонущим в пирамидах пустых и полных бутылочных ящиков, обнесённых ржавой сеточной загородкой, ждали, когда Сердюк выйдет зачем-то из киоска, и хором злобно выражали ему своё «Фе».
Пустая стеклотара – немалый доход пацанячий и семейный. Её все, и взрослые, собирали в авоськи, иногда огромные, неподъёмные и тащили к Сердюку. Простая бутылка из-под ситро или жигулёвского – целых 12 копеек, молочная пол-литровая – 15! Десять бутылок сдал, и сразу целое богатство в кармане!
Очереди у Сердюка частые, всегда медленные, долгие, ворчливые. Такие от того, что Сердюк ощупывал пальцем горлышко каждой бутылки на предмет щербатости. Щербатые он отставлял в сторону, не принимал. Делал это важно и неторопливо, пока люди, затаив дыхание ждали расчёта, как приговора.
С каждой, отставленной в сторону бутылкой, люди теряли надежду на светлое, ладно, хотя бы, сытое будущее. Мы, пацаны расстраивались больше всех, и чем больше было очередное разочарование, тем страшней были наши планы на очередную перевоспитательную пакость этому гаду.
Браковать бутылки, банки, было его любимым и прибыльным занятием. И не важно, что бутылка была куплена в гастрономе с уже, так называемой щербинкой, слово Сердюка – закон, никакие доводы не принимались, спорить было бесполезно!
Редко, кто забирал отбракованное назад, чего с ним делать, куда нести… Так и оставляли, а Сердюк клал их после в ящики вместе с остальными принятыми, денежки себе в карман. Мы видели такое не раз.
Самым обидным было, когда перед тобой в очереди остаётся два-три человека, а Сердюк, вдруг захлопывает окошко и выставляет за ним картонку с надписью – «Ящиков нет!».
В этот раз у дяди Вани стоит всего пару пустых бутылок от портвейна «три семёрки», да и время позднее – предлагать ему сдать их утром смысла не имеет, я и не стал. Сижу, думаю, как спасти мои сандалии, завтра ж во двор выйти не в чём.
Пока думаю, дядя Ваня перестаёт раскачиваться и расслабленно обмякает, уставившись на меня мутным взором.
– Чего пришёл? – Голос усталый, хриплый, недовольный. Показываю сандалии. Вернее, полтора сандалия – подмётка и ремешки у одного отдельно, у другого – висят на сопельках почти отдельно. Дядя Ваня хмыкнул, разглядывая моё сокровище.
– Где это тебя угораздило, мамка башку не оторвала? – Закурил Беломорину, густо затянулся, так, что лица видно не стало. Прокашлялся. Смотрит на меня.
– Было, дядь Вань! Потом чуть не плакала.
– Ясен пень… – Рассмотрел поближе ремешки, подмётку в руках покрутил. Глянул на мои голые ноги во вьетнамках с замотанными синей изолентой резинками. – Шагай, утром придёшь!
– Неужели почините?! – От возможного счастья у меня перехватило дыхание. Доходить месяц во вьетнамках было горем не из последних. К тому же, у них всё время резинки выскакивали из подошв, даже при обычной ходьбе, а побегать в них и говорить нечего.
– Глухой? Сказал утром, значит утром! – Голос заплетается, но в сказанное верится. – Полтинник принесёшь, и Маргарите скажи, что её сапоги зимние ждать нужно. Там супинатор стальной лопнул, а у меня сейчас такого нет, обещали во вторник. Весь ремонт в трёшку станет.
– Дядь Вань, а супинатор, это чего такое? – Пошурудив в своих сапожных причиндалах на столе, достаёт тонкую, чуть согнутую полоску металла, даёт мне. – На, гляди, зачем оно – завтра расскажу! Шагай, боец! Счастливый топаю домой, учу слово «супинатор».
Почему на восьмом десятке мне зашло, вдруг это воспоминание детства прошловековой давности, да ещё в таких подробностях… И близко не думалось в момент, когда оно накрыло с головой, совсем о другом мысли были.
Мысли были о дне сегодняшнем, времени избега первой четверти двадцать первого века, о всё нарастающем противостоянии миров, свидетелем, участником которого мне привелось стать волею Божьей.
И о том, давно преследующем меня тягостном, никак не оформленном в сознании ощущения безнадёги, от происходящего в России-матушке. Всякий раз, читая, слушая о жизни тамошней, оно накрывает меня и тянет в такие глубины, что тошно становится до невозможности.
Видны невооружённым глазом те колоссальные, дух захватывающие изменения к лучшему, грандиозные технические достижения, неоспоримые политические, военные успехи. Виват, три раза! Но… Это проклятое «но»…
Дьявол кроется в деталях. Натыкаясь на них, торопеешь в каждом шаге. Понимаешь, насколько глубоко и масштабно проникло в поры русские столетиями насаждаемое западопоклонство.
Где главное – прибыль, нажива… Как основа жизни, фундамент, смысл её и движитель.
Всё остальное лишь второстепенное приложение, надстройка, целиком подчинённая сему «великому», – мать его за ногу и головой об асфальт, – смыслу существования человечества. Цивилизованного, разумеется.
Мораль, закон, религия, права людей, наций – лишь его оформление, второстепенная инфраструктура, перманентно отключаемая по необходимости и воле втайне самопровозглашённых правителей.
Оправдательной вишенкой на торте высотой с Вавилонскую башню – всемирная универсальная индульгенция на отпущение любых грехов, на самом деле – пропуск в ад – «Nothing personal, only business». (Ничего личного, просто, бизнес)
Всё продаётся – честь, совесть, Родина, память, близкие, корни, традиции. Перечень и размеры искушений, предлагаемых колеблющимся в себе русским западными «благодетелями», превысили возможности и стремление оставаться человеком. Вопрос цены. Неужели навсегда…
Шерсть дыбом от осознания глубины падения того, на что идут люди, государственные деятели, чиновники, военачальники, всевозможные борцы за народное счастье, заради наживы.
Финансовый сектор, а главное, культура, образование, практически, в полном управлении «вхожденцев-западопоклонников». Видно слепому и каждому!
И, ладно бы внешние атрибуты этого западопоклонства подражательно копирующие видимое глазу, слышимое ухом. Весь этот прущий отовсюду рекламизм, шоумания, бизнесоподобие, стремление соответствовать тому, чему сами западники давно не соответствуют и не стремятся.
Вроде, начинают с этим помалу бороться. Вопрос в том, насколько далеко зашла гангрена. Лечима ли она компрессами с мазями судебных решений на уровне отпущения грехов попом-расстригой вору-душегубу, постановкой капельниц смешных тюремных сроков, или медленным вырезанием по кусочку поражённых тканей.
Но и это терпится более-менее, страна богатая – не разграбишь, столетиями проверено. Ограбление доверчивых, как один из главных способов существования «святого Запада», что в том нового.
Другое обездвиживает напрочь – масштабы поражения, чувство безнадёги, которое, как не старайся смыть его надеждами, накрывает и накрывает всякий раз при узнавании о вскрытии новых гнойников на теле державы. Господи, сколько же их, и это только вскрытые, а сколько таится внутри! Чем больше вскрывается, тем холодней надеждам.
Испытанное в моём безоблачном детстве, в попытке вытащить себя из той липкой смолы чувство безнадёги, до безобразия повторяется сегодня всякий раз, когда думаю об этом.
То, что не доживу до полного излечения понятно и принимается без горечи и возражений.
Главное, что гложет – случится ли излечение державы, отпустит ли её эта смола бесовская из липкости своей гнусной…
И найдётся ли достаточно мастеров на все руки, воинов святых – Дядей Вань, способных себя забыв и не щадя, защитить Родину, сварганить ей подошвы крепкие, надёжные, неизносные, для уверенного и спокойного шага по жизни, по любым камням, стёклам, битым, щедро рассыпанным врагами и недоброжелателями.
Их есть, они слышны и видны во многом из происходящего. Духовный иммунитет русского народа огромен, доказано исторически. Но и истощён последними десятилетиями небывало. Хватит ли их, сумеют ли…
Новостные ленты, эфиры, Сети, чаты – кипит котёл, натекла смола. И вдруг, детство. Откуда, как, почему… Загадочно память работает. Давно забытое не исчезает. Ничто не исчезает. Не оттого ли, что связь прошлого и настоящего неразрывна, совершенно независимо от нас.
Мы насквозь состоим из этих связей в божественном единстве Мироздания, которое так не хотим признать, в силу своей плотской ограниченности и небрежения Душой, в которое давно, упорно, целеустремлённо загоняют мир животноводы-людоловы, они же – эмпаткастраты территорий Заходящего солнца.
Солнце всходит на Востоке, оттуда свет.
Рига. Ноябрь 2024 г.
© Copyright: Олег Озернов, 2024
Свидетельство о публикации №224111801169